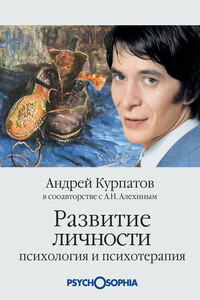Индивидуальные отношения. Теория и практика эмпатии | страница 52
Далее Аристотель открыл эру спекулятивного мышления, обещая все объяснить и представить в рамках теории. Там, где Платон не решился резать по живому ткань психологического опыта, Аристотель разрезал, объявив понятие идентичным обозначаемому. В дальнейшем Плотин завершил растление мифологичности, разложив неразложимое в системе понятий. Понятие целостности, зыбкое и в то же время очень ясное у Платона, семантически трансформировалось у Плотина в «единство». Понятия системы, идеи, числа – формализовались и предстали на суд рассудку в виде голых идей логического мышления, а не в виде живых эйдосов, как это было прежде. Так у Плотина появляется понятие «Духа», который «есть начало не единое, но едино-многое»>22; таким образом, «Дух», по Плотину, в его внутреннем значении тяготеет от «целого» к «сумме». В конечном счете, если допустить «едино-многое», то уже не важно – то ли мы разложили нечто на части, то ли составили разрозненные части в нечто общее, мы уже не имеем целого. А подобная трактовка основного, главного, стержневого понятия философии и психологии позволяет любые допущения относительно индивидуального.
После того как «целостное» стало «единым», индивидуальное теряет всякую значимость. «Очевидно, – пишет Плотин, – что наилучшая, разумная часть Души – глубоко духовна; но должна также существовать и другая ее часть, поскольку, в противном случае Душа не отличалась бы от Духа. К ее свойству быть разумной и духовной добавляется другое качество, которое делает ее существование особым и индивидуальным. Душа перестает отождествляться с Духом и с этого момента действует самостоятельно, как и все прочее, что существует в царстве Духа»>23. Индивидуальное, таким образом, девальвируется – сводится к роли свойства, семантически уподобляется «особенному», то есть индивидуальность – это здесь уже не сущность, а просто отличность. Какое-то время «душа» в философии Плотина все еще, так или иначе – это некая имманентная неопределимая составляющая целостности сущностного (Духовного), но и этому ее статусу приходит конец. В работе «Все ли души – одна душа?» Плотин довершает логическую цепочку: «Итак, следует признать, что Душа нематериальна и в то же время она – некая субстанция»>24. Так начинается печально известная эра идеализма в развитии антропологического знания – за названием («субстанция») потерялась реальность.
В мире идеалистических воззрений, где места нет истинной реальности и достоверности, допустимы любые положения и воззрения, мир идей, образно говоря – «все снесет, все стерпит». И вот уже ученик Плотина – Прокл строит целую теорию в своем трактате о душе человека. Рассказывает о ней так, словно знаком с ней лично: оказывается, она и «бестелесная, отдельная от тела сущность», она и «среднее между делимым и неделимым», и получает-то она «свое существование непосредственно от ума», и объединяет она в себе «все вещи: чувственные, как образы, умопостигаемые, как образы», и так далее, и тому подобное. Но откуда ему все это известно – никому не ведомо.