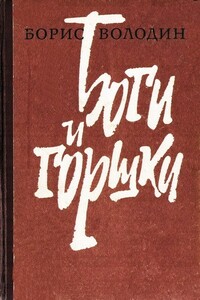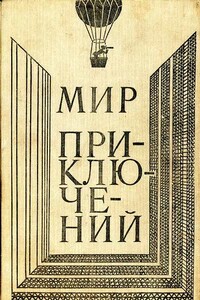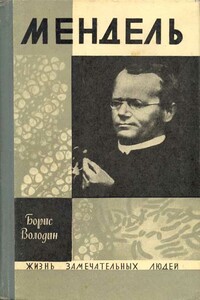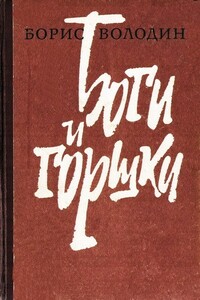Возьми мои сутки, Савичев! | страница 9
Он отдал палатной сестре отработанные истории, взял отложенную стопочку и свой листок, пошел в комнату, сел на диван, придвинул к нему поближе стол и уже медленно стал писать о родильницах, у которых в порядке было не все.
Тут и назначения надо было проверять, и о переводе решать. Не переведешь, когда надо, — просто плохо, а переведешь зря во второе — самому зря возиться придется.
И еще: почти каждый перевод — обязательно объяснения с родственниками, а объяснений и так хватает.
Вот стоит сегодня дежурному ординатору задержаться на операции, сколько ни объясняй про операцию, — найдутся в холле справочной такие, что подымут шум: мол, время идет, а они с работы, а если не с работы, то тоже дела, а в роддоме беспорядок; если справки не начинают давать, как по объявлению, — с двух, пусть объявление снимут…
А если после этого бесполезного, всех издергивающего занудства и ожидания, прочитав про себя сегодняшнюю обходную запись, ординатор скажет кому-то вместо «все нормально, как и полагается на этот день»: «Знаете, у вашей жены (или дочки) температура поднялась, и ее переводят в другое отделение. Не волнуйтесь, ничего страшного, просто такой порядок», — это прозвучит уже как гром.
Слова «ничего нет страшного, такой порядок» не объяснят ничего и ничуть не утешат. Савичев почти привык к тому, что фразы, предназначенные у врачей, чтобы успокоить, наоборот, взбудораживают. И все же ему приходилось всякий раз подавлять в себе чувство досады. Ведь он абсолютно разумен, тот неукоснительный порядок, который у них заведен, порядок, который благочестиво, как церковный обряд, исполняется всей акушерской службой… Он почти абсолютно разумен: все, чему Савичев учился за десять лет — за шесть лет института и за четыре года работы, — утверждало в этом убеждении. Ну, были в том порядке излишние строгости, которые при известном опыте имело смысл пропускать, но это касалось лишь чего-то частного и могло быть понято только теми, кто такой опыт имеет.
Но стоит только сказать пациентке и ее родичам о переводе с четвертого этажа на первый, всякий раз у нее — слезы, а с ними — разговоры: более долгие, менее долгие, более обидные или менее обидные — это уж от личных качеств.
И тут тверди без толку что угодно: что второе — это отделение как отделение, такая же священная чистота, больше персонала, присмотр попристальней и палаты поменьше — на четырех, на троих, на двух. И даже больше вольности: можно повидаться через окна и прямо из палаты поговорить почти обычным голосом, а ведь с четвертого или третьего приходится кричать, и это не разрешено, и вообще оттуда и человек-то виден измененный высотой!.. «Нет, не хотим, не хотим! И почему же, хоть мы не хотим, вы все-таки ее переводите!..»