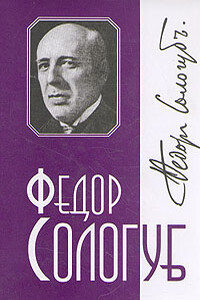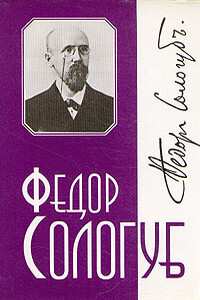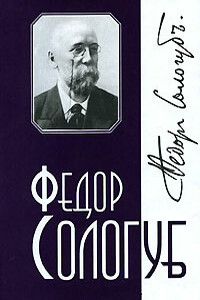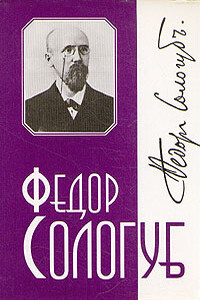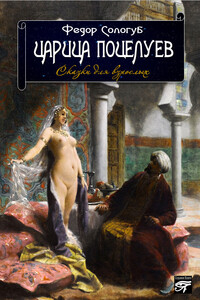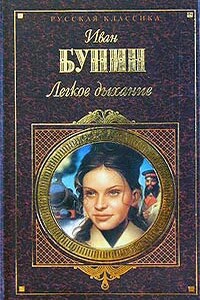Том 3. Слаще яда | страница 25
Все стали слушать. Кошурин-младший принял мечтательно-горделивую позу и торжественно продекламировал:
Катя в восторге смотрела на поэта. Седой полковник откровенно засмеялся, а Аполлинарий Григорьевич сказал, лукаво усмехаясь:
– Славные стихи. В наше время таких не писали. Только не понимаю я, о чем грустят колени.
– Это, видите ли, передается впечатление, – небрежным тоном пояснил гимназист. – Всякая вещь имеет свою физиономию, и члены человеческого тела тоже.
– Позвольте спросить, – обратился к Кошурину Ваулин, – почему именно вы изволите упоминать в ваших стихах паву, а не другую птицу, – орла бы, например?
– Извините, этого я не могу объяснить. Это надо почувствовать.
– Пава – это символ, – сказал Евгений.
– Символ чего, позвольте спросить? – продолжал любопытствовать Ваулин, устремляя на гимназистов серые, проницательные глаза.
– Символ чего-то такого… я не могу это выразить.
– Если хотите, – снисходительно объяснил наконец Кошурин, – символ гордого стремления к неизвестному. Я, по крайней мере, так объясняю себе. Но я должен сказать, что когда я создаю стихи, я не понимаю, что пишу.
– О да, это заметно, – очень любезно согласился Ваулин.
– Я на него уж и рукой махнул, – с веселым смехом заявил Ко-шурин-отец, Павел Кошурин и Катя Ваулина сидели, уединившись, в уголке. Гимназист в чем-то настойчиво убеждал девушку, которая неопределенно улыбалась и покрывалась слабым румянцем.
– Позвольте же, – воскликнул наконец гимназист, – прочесть мои стихи, посвященные вам. То, что я должен вам сказать, прозой не выходит убедительно, – стало быть, это надо сказать стихами. Надеюсь, вы поймете или почувствуете. Слушайте.
Катя закрыла глаза и откинулась на спинку стула Гимназист, близко наклонясь к ней, продекламировал страстным полушепотом:
Кошурин кончил. Катя сидела с закрытыми глазами и словно ждала еще чего-то. Наконец она открыла глаза. В них было блудливое и желающее выражение.
– Все? – спросила она очень тихо.