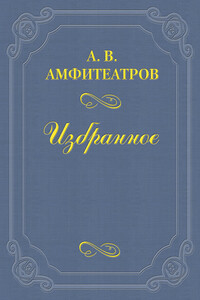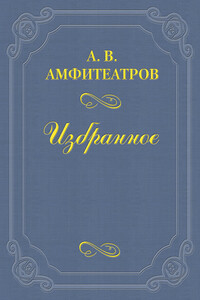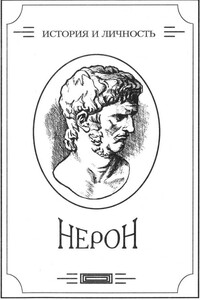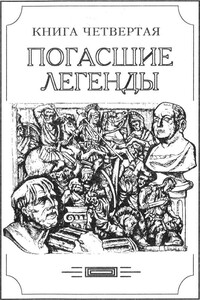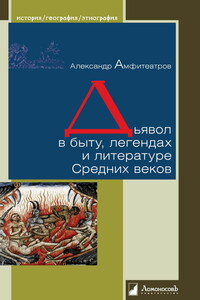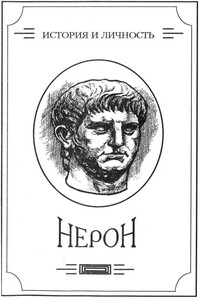Дом литераторов в Петрограде 1919-1921 годов | страница 6
Он возник очень просто и скромно как заурядная «столовка», в которой выдавался обед, несколько лучший, чем в советских «столовках», за несколько высшую плату. Тогда советское кормление – вернее сказать, массовое отравление населения – не было еще бесплатным. Да лучше было бы и не делать его таковым, потому что, со введением принципа бесплатности, советские столовки, уже и ранее ни на что не похожие, превратились в совершеннейшие клоаки, в которых ужасающее воровство Петрокоммуны соперничало размерами с небрежностью и неумелостью администрации, неряшеством кухни, распущенностью служащих. Так что пресловутое бесплатное кормление, чем бы явиться могучею демагогическою мерою, вроде древнеримской анноны (фрументации), быстро выродилось во всеобщее посмешище. Обед литературной столовки стоил вдвое дороже советского, но был впятеро питательнее. Надбавка стоимости как бы заменяла былой членский и кооперативный взнос и содействовала образованию оборотного фонда.
Клиентура литературной столовки выросла в несколько сот душ. Конечно, она не имела права профессионального подбора едоков, но он сделался сам собою. Простою записью сложилось и замкнулось крепкое писательское кольцо, настолько значительное численно, что обвело едва ли не весь петроградский литературный мир. Расторгнуть это кольцо советская власть, хотя и очень им недовольная, почла неловким и невыгодным. Ведь продовольственный кризис все обострялся, коммунистическое хозяйство фатально стремилось к краху, разрушение кооперативов уже обнаружило свою вреднейшую нелепость. Организацию с претензиями автономной самопитаемости коммуна могла отрицать и гнать по принципу, но должна была бы, собственно говоря, приветствовать ее по существу, как избавление шеи своей от обузы в несколько сот голодных ртов. К тому же Комиссариат народного просвещения в лице Луначарского и его петроградского заместителя, фамилию которого я, к сожалению, сейчас не вспоминаю, – кажется Гринберг, – был бесконечно сконфужен дикостью коммунистического гонения на литературу, и если не помогал ей, то, по крайней мере, и не распинал ее, умывая руки, как Пилат. Таким образом, Дому литераторов удалось найти, правда, зыбкое, но все же равновесие – в состоянии «незамечаемости». В тени ее он и начал развиваться.
В качестве «столовки», рассчитанной на 500 едоков, он имел право на обширное помещение. Энергией тех же членов-основателей, Кауфмана, Клячко, Харитона, Волковыского, был выхлопотан и занят большой опустелый барский дом-особняк, с садом, на Бассейной улице, почти при впадении ее в Литейный проспект, – значит, в самом центре столицы. Еще худшим пищевого голода ужасом петроградской интеллигенции был голод топливный. Мы жили в квартирах, опустелых от мебели, сожженной в печках-буржуйках, при температуре чуть выше, а часто и много ниже нуля, не выходили из теплого верхнего платья, работали в шапках и перчатках либо обмотав коченеющие руки тряпками. Дом литераторов предложил своим членам дневное тепло, а иных, уже вовсе обездомленных холодом либо вселением пролетариата, устраивал и на ночь.