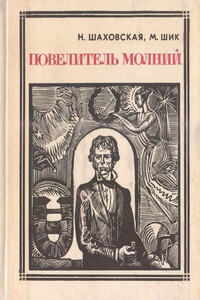Помяловский | страница 53
А. М. Горький справедливо говорил о «Мещанском счастье» как о крупном художественной произведении, до сих пор имеющем важное значение в деле воспитания советского читателя.
Объяснить значение «Мещанского счастья» можно, только изучив всю совокупность решаемых в повести проблем, а также художественный метод, которым написано это произведение.
Проблема нового человека — краеугольный камень «Мещанского счастья». Здесь впервые в русской литературе рассказано о плебее-разночинце, сыне столичного слесаря Егоре Ивановиче Молотове, ставшем мыслящим пролетарием. Эта новая по тому времени литературная биография — стержень всего повествования. Однако не случайно фон «Мещанского счастья» — старая барская усадьба, столь знакомая по произведениям Тургенева, особенно по «Рудину». Недаром и в «Мещанском счастье» и в «Рудине» одинаковый фабульный стержень — приезд в помещичье имение из столицы представителя умственного труда. И в «Рудине» и в «Мещанском счастье» в центре — романическое приключение гостя, его любовная драма (Рудин — Наталия, Молотов — Леночка).
«Мещанское счастье» так же, как и другое произведение Помяловского — «Молотов», это — открытая ревизия тургеневского творчества («Мещанское счастье» — «Рудин»; «Молотов» — «Дворянское гнездо»), ревизия всей дворянской литературной школы. Вообще история литературы знает немало подобных случаев ревизии «уходящих» художников представителями новой литературной эпохи; стоит только вспомнить о пародировании средневековых романов в «Дон Кихоте» Сервантеса, а в русской литературе рассказ Чехова «Егерь», ревизующий тургеневское «Свидание».
Помяловский весьма искусно проделывает это в своих первых романах.
«Рудин» начинается с описания «небольшой деревеньки» Дарьи Михайловны Ласунской, с изображения имения, утопающего в липовых аллеях, золотисто-темных и душистых, с изумрудными просветами по концам, описывает парк, где много беседок из акаций и сирени.
Помяловский свое «Мещанское счастье» начинает не с пейзажа, а с размышлений Егора Ивановича Молотова о помещичьем имении Обросимовых и его липовых аллеях. Причем эти «липы» с первых строк предназначены, так сказать, для полемической цели, для плебейского ропота.
«Егор Иванович Молотов думал о том, как хорошо жить помещику Аркадию Ивановичу на белом свете, жить в той деревне, где он, помещик, родился, при той реке, в том доме, под теми же липами, где протекло его детство. При этом у молодого человека невольно шевельнулся вопрос: «а где же те липы, под которыми прошло мое детство? Нет тех лип, да и не было никогда».