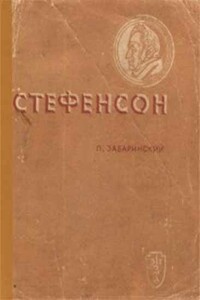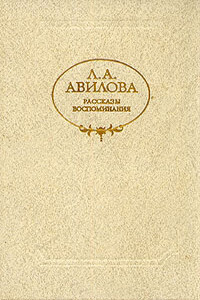Мое обнаженное сердце | страница 88
Есть в этой галерее страданий и мрачных драм ужасная фигура – это жандарм, надсмотрщик, суровое, неумолимое, не умеющее рассуждать правосудие, неистолкованный закон, нечеловеческий рассудок, которому, впрочем (да и можно ли называть это рассудком?), никогда непонятны смягчающие обстоятельства, одним словом, Буква без Духа, – отвратительный Жавер. Хотя я слышал, как некоторые благомыслящие люди говорили по поводу этого Жавера: «В конце концов, он честный человек, и у него есть собственное величие». Это все равно что сказать подобно де Местру: «Я не знаю, что такое честный человек!»>7 Мне, признаюсь в этом с риском сойти за виновного («те, кто дрожит, чувствуют, что виновны», – по словам сумасшедшего Робеспьера>8), Жавер представляется неисправимым чудовищем, алчущим правосудия как дикий зверь кровавой плоти, короче, абсолютным Врагом.
К тому же мне бы хотелось высказать здесь одно маленькое критическое замечание. Сколь бы огромными, сколь бы решительно очерченными ни выглядели идеальные персонажи поэмы, мы должны предположить, что их прообразы были взяты из самой жизни. Я знаю, что человек в любую профессию способен привнести больше, чем просто рвение. В любом порученном ему деле он становится охотничьим или бойцовым псом. В том несомненно и состоит красота, проистекающая из страсти. Так что можно быть полицейским и с воодушевлением; хотя поступают ли в полицию из воодушевления? И не является ли это, напротив, одной из тех профессий, которую можно избрать для себя лишь под давлением некоторых обстоятельств и по причинам, совершенно чуждым фанатизму? Предполагаю, что незачем пересказывать и объяснять, какой нежной и горестной красотой Виктор Гюго наделил образ Фантины, падшей гризетки, современной женщины, попавшей в западню между неизбежностью неплодотворного труда и неизбежностью легальной проституции. Мы давно знаем, как мастерски он умеет изобразить этот страстный вопль посреди бездны, эти стенания и яростные слезы львицы-матери, лишившейся своих детенышей! Здесь, в этой совершенно естественной связи, мы вынуждены еще раз признать с какой уверенностью и легкостью рука этого могучего художника, творца колоссов, окрашивает щеки детства и озаряет его глаза, описывая присущую детям резвость и наивность. Словно Микеланджело забавляется, соперничая с Лоуренсом>9 и Веласкесом.
IV
«Отверженные» – книга милосердия, оглушительный окрик, обращенный к слишком влюбленному в себя обществу, слишком мало пекущемуся о бессмертном законе братства; это речь в защиту обездоленных, тех, кто страдает от позорящей их нищеты, высказанная самыми красноречивыми устами своего времени. Несмотря на умышленное плутовство или безотчетную пристрастность в том, как с точки зрения строгой философии очерчены границы проблемы, мы думаем точно так же, как и автор: книги подобного рода никогда не бывают бесполезны.