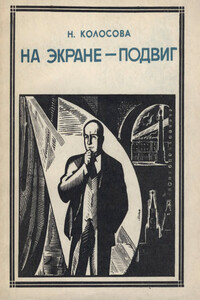Мое обнаженное сердце | страница 74
В 1843–1845 годах огромная, нескончаемая туча, пришедшая отнюдь не из Египта, обрушилась на Париж. Эта туча извергла из себя нео-классиков, которые, конечно, стоили многих легионов саранчи. Публика так устала от Виктора Гюго, от его неустанных способностей, от его несокрушимых красот, была так раздражена, постоянно слыша, как его величают справедливым>1, что на какое-то время решила в своей коллективной душе принять за нового идола первое же бревно, которое свалится ей на голову. Всегда можно рассказать прекрасную историю о заговоре глупости в пользу посредственности; но на самом деле бывают такие случаи, когда, столь бы правдивыми вы ни были, лучше не рассчитывать на то, что вам поверят.
Это новое увлечение французов классической глупостью грозило продлиться долго; к счастью, время от времени можно было наблюдать мощные симптомы сопротивления. Уже Теодор де Банвиль произвел, хотя и напрасно, свои «Кариатиды»; все красоты, там содержавшиеся, были таковы, что публика немедленно должна была их отвергнуть, потому что они были мелодичным эхом мощного голоса, который хотели заглушить.
Пьер Дюпон нам тогда немного помог, и эта столь скромная помощь произвела громадное действие. Я взываю ко всем тем из наших друзей, кто тогда посвятил себя изучению литературы и был удручен новой ересью; я думаю, они, как и я, признают, что Пьер Дюпон был превосходным отвлечением. Он стал настоящей дамбой, послужившей для того, чтобы отвратить поток, пока тот не истощится и не иссякнет сам по себе.
До этих пор наш поэт еще оставался не определившимся – не в своих симпатиях, но в манере письма! Он опубликовал несколько стихотворений благоразумного, умеренного вкуса, в которых чувствовалась прилежная учеба, но беспородного стиля, и не имел более высоких устремлений, нежели Казимир Делавинь. И вдруг его поразило озарение: он вспомнил свои детские чувства и скрытую поэзию детства, которую некогда столь часто будило то, что мы можем назвать анонимной поэзией, – он вспомнил песню; но не творение так называемого образованного человека, склоненного над казенной конторкой и использующего свой досуг бюрократа, а песню первого встречного – земледельца, ломового извозчика, каменщика, матроса. Альбом «Крестьяне» был написан в чистом и решительном, свежем, красочном, вольном стиле, а фразу несли, как конь всадника, простодушные, легкие для запоминания и сочиненными самим поэтом мелодии. Этот успех еще помнят. Он был необычайно большим и всеобщим. Образованные люди (я говорю о настоящих) нашли тут свою пищу. Общество не оказалось нечувствительным к этой безыскусной прелести. Но главная помощь, которую извлекла из этого Муза, состояла в том, что душа публики вновь обратилась к истинной поэзии, которую, похоже, неудобнее и труднее любить, чем рутину и устаревшие моды. Вновь была обретена буколика; как и у лжебуколики Флориана