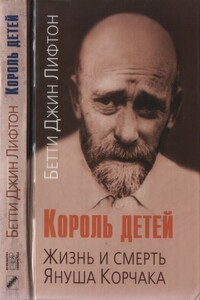Мое обнаженное сердце | страница 68
Ребенок! Вот верное слово, и из этого слова и заключенного в нем смысла я извлеку все, что смогу сказать похвального на его счет. Некоторые наверняка сочтут (даже предположив, что они думают так же, как я), что я слишком уж далеко зашел в порицании, преувеличил его выражение. В конце концов, это возможно; но в таком случае я не увижу в том большого греха и не окажусь таким уж виноватым. Действие, противодействие, благосклонность и жестокость необходимы попеременно. Надо же восстановить равновесие. Это закон, и хороший закон. Пусть подумают о том, что здесь говорится о человеке, которого хотели сделать принцем поэтов, и это в стране, породившей Ронсара>15, Виктора Гюго, Теофиля Готье; так, недавно с превеликим шумом объявили о подписке ему на памятник, словно речь шла об одном из этих необыкновенных людей, пренебрежение могилами которых – пятно на истории народа. Имеем ли мы дело с волей, противостоящей невзгодам, подобно Сулье>16 и Бальзаку, с человеком, облеченным большими обязанностями, принимающим их смиренно и беспрестанно отбивающегося от ростовщической лихвы? Моро не любил страдания, не признавал его благотворности и не догадывался о его аристократической красоте! Впрочем, он и не познал этот ад. Чтобы можно было требовать от нас столько сострадания, столько нежности, человек и сам должен быть нежным и сочувствующим. Познал ли он пытки неудовлетворенного сердца, мучительные затмения любящей и непонятой души? Нет. Он принадлежал к разряду тех пассажиров, которые удовлетворяются малыми издержками, кому довольно хлеба, вина, сыра и первой встречной.
Но он был ребенком – всегда дерзким, часто милым, порой очаровательным, обладающим детской гибкостью и непредсказуемостью. Есть в литературной юности, как и в юности физической, какая-то дьявольская красота, которая заставляет прощать немало несовершенств. Мы находим у него вещи похуже несовершенства, но порой он также чарует нас. Несмотря на это нагромождение подражаний, от которых Моро, вечный ребенок и школяр, так никогда и не избавился, у него иногда прорывается искрящаяся правдой интонация – внезапная, естественная, которую нельзя спутать ни с какой другой. Он, столь глупый нечестивец, придурковатый попугай зевак от демократии, действительно обладает очарованием, этим безвозмездным даром.
Обнаруживая в ворохе заимствований, в хаосе безотчетного и невольного плагиата, в выхлопе бюрократического или школярского ума одно из тех нежданных чудес, о которых только что говорилось, мы испытываем что-то похожее на огромное сожаление. Наверняка писатель, сочинивший в один из своих добрых часов «Вульзи» и песню «Фермер и фермерша»