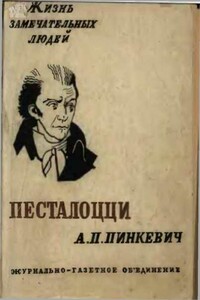Мое обнаженное сердце | страница 111
Однако повторяю: что скажет, что напишет перед лицом всей этой необычности один из нынешних отъявленных профессоров эстетики, как их обозвал Генрих Гейне, этот очаровательный ум, который был бы гениальным, если бы чаще обращался к божественному? Безумный теоретик Прекрасного наверняка станет нести вздор; запершись в неприступной крепости своей системы, он будет хулить иные жизнь и природу, и его греческий, итальянский или парижский фанатизм убедит его запретить не похожему на его народ другому дерзкому народу наслаждаться, мечтать или думать иным способом, нежели его собственный. Перемазанная чернилами наука, ублюдочный вкус, еще более варварский, чем у варваров, забывший цвет неба, вид растительности, движение и запах животных. Безумец, чьи скрюченные, парализованные пером пальцы уже не могут проворно бежать по огромной клавиатуре соответствий>6!
Я не раз пытался, как и все мои друзья, замкнуться в некоей системе, чтобы проповедовать там в свое удовольствие. Но система – своего рода проклятие, которое толкает нас к постоянному отречению; нам все время приходится измышлять другую систему, а жестокое наказание за это – усталость. Моя система всегда была прекрасна, пространна, вместительна, удобна, особенно опрятна и вылощенна – по крайней мере, казалась мне таковой. И всегда какое-нибудь стихийное, неожиданное проявление всеобщей жизненной силы опровергало мою ребяческую и уже устаревшую науку, жалкую дочь утопии. Напрасно
я перемещал или расширял критерии, они постоянно отставали от вселенского человека и никак не могли угнаться за многообразной и многоцветной красотой, которая движется по бесконечным спиралям жизни. Беспрестанно обреченный на унизительную перемену убеждений, я наконец решился. Желая избежать этого отвратительного для меня философского отступничества, я горделиво смирился со своим скромным уделом – удовлетворился чувством, вернулся к прибежищу безукоризненной наивности. За это я смиренно прошу прощения у всякого рода академических умов, населяющих различные цеха нашей художественной фабрики. Тут моя философская совесть нашла покой; и в той мере, в какой человек ответственен за свои добродетели, я могу утверждать, что мой ум теперь сполна наслаждается беспристрастностью.
Все без труда понимают, что, если бы люди, облеченные задачей выражать прекрасное, согласовывались с правилами «отъявленных» профессоров, само прекрасное исчезло бы с лица земли, поскольку все типы, все идеи, все ощущения смешались бы в огромном, монотонном и безликом однообразии, беспредельном, как скука и небытие. Разнообразие, условие