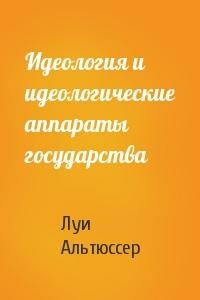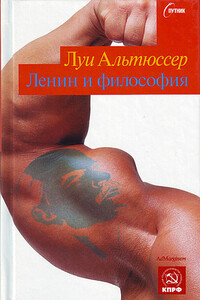За Маркса | страница 24
Итак, мы получаем следующую классификацию:
1840–1844: Ранние работы
1845: Работы переломного периода
1845–1857: Работы периода созревания
1857–1883: Работы периода зрелости
4) Период ранних работ Маркса (1840–1845), т. е. его идеологических работ может быть подразделен на два этапа:
А) Рационалистически — либеральный этап статей в «Рейнской газете» (до 1842 г.) и
Б) рационалистически — коммунитаристский этап 1842–1845 гг.
Как я уже вкратце показал в тексте «Марксизм и гуманизм», работы, относящиеся к первому этапу, предполагают проблематику кантианско — фихтеанского толка. Напротив, тексты, принадлежащие ко второму этапу, основаны на антропологической проблематике Фейербаха. Гегелевская проблематика служит источником вдохновения для одного совершенно уникального текста, в котором производится последовательная попытка осуществить «переворачивание» гегелевского идеализма и превращение его в псевдо-материализм Фейербаха, причем в совершенно строгом смысле слова: это «Рукописи 1844 г.». Отсюда вытекает то парадоксальное следствие, что, строго говоря, если не принимать во внимание все еще ученические опыты его диссертации, лишь в этом практически последнем тексте его идеологически — философского периода Маркс был гегельянцем; за исключением этого текста Маркс никогда не был гегельянцем: вначале он был кантианцем — фихтеанцем, а затем стал фейербахианцем. Таким образом, получивший в наши дни широкое распространение тезис о гегельянстве молодого Маркса — не более чем миф. Тем не менее создается впечатление, что на пороге разрыва с его «прежней философской совестью» Маркс, в единственный раз за все время своей молодости обратившись к Гегелю, произвел гигантское теоретическое «отреагирование», бывшее необходимым для ликвидации его прежнего «бредящего» сознания. Вплоть до этого момента он постоянно дистанцировался от Гегеля, и если мы захотели бы помыслить то движение, которое заставило его перейти от своих гегельянских университетских опытов к кантианско — фихтеанской, а затем — к фейербахианской проблематике, то следовало бы сказать, что Маркс отнюдь не приближался к Гегелю, но наоборот, не переставал от него удаляться. Благодаря Фихте и Канту он достиг окончания XVIII столетия, а благодаря Фейербаху он в регрессивном движении приблизился к самому средоточию теоретического прошлого этого века — если верно то, что Фейербаха мы можем рассматривать в качестве идеального философа XVIII века, в качестве синтеза сенсуалистического материализма и этически — исторического идеализма, как реальное единство Дидро и Руссо. И напрашивается вопрос, не обстояло ли дело таким образом, что в этом внезапном и тотальном последнем возвращении к Гегелю, происходящем в «Рукописях 1844 г.», в этом гениальном синтезе Гегеля и Фейербаха, Маркс словно в неком взрывоопасном опыте свел воедино, выявив в то же время их суть, тела двух крайних составляющих теоретического поля, которое он до тех пор обрабатывал, и не в этом ли опыте, отмеченном чрезвычайной строгостью и осознанностью, в самой радикальной из всех когда — либо предпринимавшихся попыток «переворачивания» Гегеля, не в этом ли тексте, который так и остался неопубликованным, Маркс практически пережил и завершил свое собственное преобразование. Если мы хотим приобрести хоть какое — то понимание логики этой необыкновенной мутации, то искать его следует именно в чрезвычайном теоретическом напряжении «Рукописей 1844 г.», помня при этом о том, что текст почти самой последней ночи парадоксальным образом является текстом, в теоретическом отношении наиболее удаленным от грядущего дня.