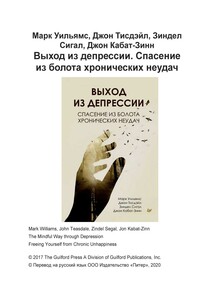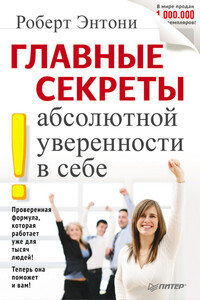Мудрость психопатов | страница 96
Эти же закономерности проявляются и во время войны. Пинкер подсчитал, что даже в богатом на конфликты XX веке на полях сражений погибло около 40 миллионов человек, тогда как население Земли составило около 6 миллиардов. То есть убито было около 0,7 %.
Если мы включим в число потерь, связанных с войной, тех, кто умер от болезней, голода и геноцида, количество погибших возрастет до 180 миллионов. Это число звучит устрашающе, но с точки зрения статистики не имеет особого значения, потому что составляет лишь скромные 3 % от общего населения нашей планеты.
Сравните эти данные с показателем для доисторического общества (15 %) — и вы увидите общую картину. Пробитый череп неандертальца, который Кристоф Цолликофер с коллегами откопали на юго-западе Франции, — это лишь верхушка айсберга.
Однако, как только мы узнаем об этих цифрах, у нас в мозгу сразу возникают вопросы. Во-первых, согласуются ли эти цифры с интуитивным, хотя и спекулятивным предположением о том, что общество становится все более психопатическим? Во-вторых, если уровень жестокости снижается, что же произошло за прошедшие века с нашими импульсами убивать и прибегать к насилию?
Давайте начнем со второго вопроса, ответ на который либо очевиден, либо приемлем с точки зрения большинства людей — причина кроется в существовании закона. В 1651 году в своем трактате «Левиафан» Томас Гоббс впервые выдвинул идею о том, что без контроля со стороны государства (направленного сверху вниз) мы все превратились бы в стаю кровожадных дикарей. В его представлениях есть нечто большее, чем просто крупица истины. Но Пинкер подходит к этому с другой позиции; не отрицая важности законодательных ограничений, он подчеркивает важность процесса культурного и психологического взросления, действующего снизу вверх.
«Начав с одиннадцатого или двенадцатого столетий и продолжив этот процесс взросления в семнадцатом и восемнадцатом веках, европейцы все сильнее сдерживали своим импульсы, научились предвидеть долгосрочные последствия своих поступков и стали принимать в расчет мысли и чувства других людей, — пишет Пинкер. — На смену культуре чести (готовности отомстить) пришла культура достоинства — готовность контролировать собственные эмоции. Эти идеалы восходят к тем наставлениям, которые культурные арбитры давали аристократам и знати, чтобы те имели возможность отличаться от крестьян и грубых, невоспитанных хамов. Эти правила становились неотъемлемой частью социализации детей все более младшего возраста до тех пор, пока не превратились во вторую натуру людей. Кроме того, эти стандарты начали спускаться вниз по социальной лестнице — от высшего класса к буржуазии, стремящейся подражать аристократам, а от буржуазии они проникли в низшие классы и, в конце концов, стали частью культуры всего общества в целом».