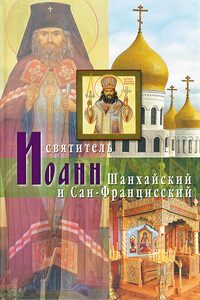Трудные страницы Библии. Ветхий Завет | страница 51
1) что священнописатель действительно цитирует слова и документы другого;
2) что он не принимает их и не присваивает себе, так что можно считать, что он не говорит от своего имени».
Итак, широкое применение этой системы исключается, но остается возможность пользоваться ею в отдельных случаях. Так, например, в Ветхом Завете имеются генеалогии (Быт 5, 11; 25; 36, и т. д.), перечни местностей с указанием их принадлежности различным племенам (Ис Нав 13–21), сообщения о переписях (Езд 2; 1 Пар 9), которые имеют характер настоящих архивных документов, словно перед нами какая-нибудь опись или кадастр.
Очевидно, Провидению было угодно, чтобы эти документы не были потеряны, поскольку в определенные исторические моменты они сыграли свою роль в формировании избранного народа. В своей совокупности они и в настоящее время удостоверяют «Израилю Божию» (Гал 6, 16), христианам, «утвержденным на основании Апостолов и пророков» (Еф 2, 20), что они действительно являются духовными наследниками особого народа, который занимает определенное этническое и географическое место в истории человечества. Вот почему руководствуясь божественным вдохновением, священные писатели внесли в свои книги такие документы, которые иначе были бы потеряны. Именно в этом смысле эти документы боговдохновенны, а не потому, что божественное вдохновение, благодаря которому они были включены в священный текст, изменило их внутреннюю природу и словно по мановению волшебной палочки вдруг превратило их в письмена, точные и полные во всех деталях. Они остаются только документами, извлеченными из архивов избранного народа, а не упавшими с неба откровениями. Дело обстоит именно так, потому что боговдохновенный автор желал использовать их в качестве документов и более никак. Ему не было нужно постоянно открыто ссылаться на архивы, как в 1 книге Ездры 6, 2, настолько все это было самоочевидно [59].
Итак, когда мы обнаружим в книгах Ветхого Завета генеалогию, список или что-то подобное, мы не будем искать в них той точности деталей или той «божественной истины», которые, видимо, не имеют отношения к цели и соответственно к намерению автора (ср. пар. 54).
Вот другое обстоятельство, которое позволяет на законном основании предполагать, что нам встретилась подразумеваемая цитата: когда об одном и том же факте есть два рассказа, отличающихся друг от друга и просто стоящих рядом по воле автора, который и не пытается согласовать их между собой. В таком случае можно заключить, что боговдохновенный автор цитирует два документа, что он принимает их в существенных чертах (а иначе зачем бы он их цитировал?), не ручаясь, однако, за все детали (иначе почему бы ему не попытаться их согласовать?) и предоставляя читателю высказывать о них свое мнение