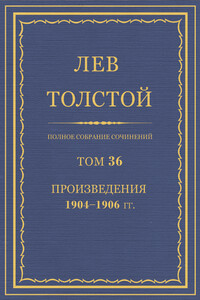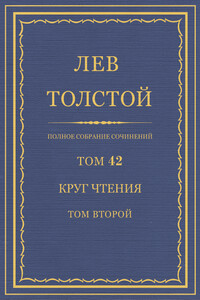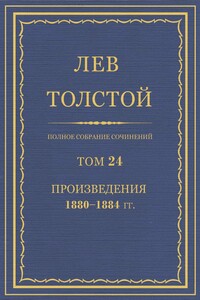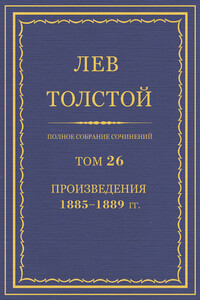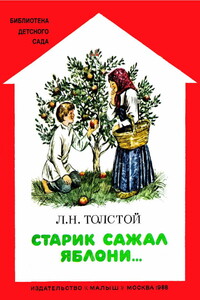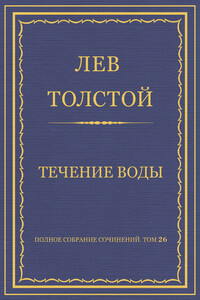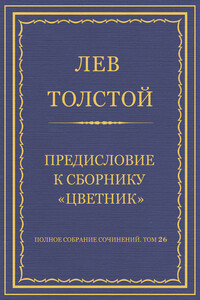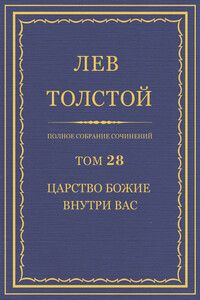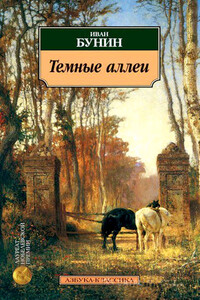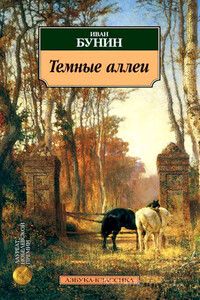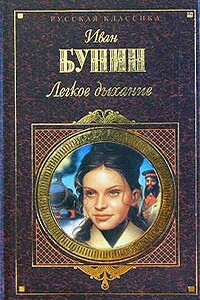ПСС. Том 88. Письма к В.Г. Черткову, 1897-1904 гг. | страница 19
Быть может, в этих совершенно «дневниковых», ничем не прикрытых суждениях более всего сказывается индивидуалистический характер толстовской философии и этики. «Бог» и «любовь» нужны здесь, во-первых, для того, чтобы примирить человека с внешними обстоятельствами его жизни, с ее неустройствами и несчастьями, наконец примирить человека со смертью, заглушить в нем ужас и ненависть к смерти представлением о мнимом «бессмертии», погруженностью в некое всеобщее начало, которое не одному А. П. Чехову могло представиться в виде «бесформенной студенистой массы».>14 Во-вторых, как легко увидеть, «бог» привлекается здесь для того, чтобы оградить самоусовершенствующееся «я» от треволнений, горечи, гнева и другой естественной реакции на проявление человеческой низости, жестокости и страданий, создать между индивидуумом и индивидуумом, индивидуумом и обществом непроходимую для выражения любых непосредственных эмоций и незримую преграду в виде «божеского начала», делающего человека способным лишь к бесстрастной и бездеятельной... «любви».
В области общественной борьбы подобная проповедь, как известно, носила еще более ярко выраженный реакционный характер, в корне убивая революционную активность масс, вызывая «отчуждение от политики... мистицизм, желание уйти от мира, «непротивление злу», и лишь «бессильные проклятья по адресу капитализма и «власти денег» (В. И. Ленин).
В полном противоречии с этой философией смирения и застоя находится то качество толстовской личности, о котором А. В. Луначарский писал как о «необычайной, изумительной широкой жизненности, связанной с общественными чувствованиями, страстями».>15 Эту жизненность, кровную связь Толстого с народом видишь, когда среди бесплотных, высокопарных рассуждений на тему о «боге», «любви», о «ступенях приближения к богу» встречается чудесная во всей простоте художественная зарисовка из дореволюционной русской деревенской жизни: «Нынче волнительное, хорошо волнительное утро. Сейчас только вернулся с деревни, где ходил смотреть проводы молодых ребят, ведомых на ставку. Залихватская гармония с песней и приплясыванием и завывания баб, и удивление и участие ребятенок, и тихие слезы стариков отцов. «А этот чей?» — спросил я, указывая на высокого стройного молодца, у старика, знакомого мне, Прокофия. — Мой, — и захлюпал и зарыдал. И я тоже, как и теперь, плачу, вспоминая это».