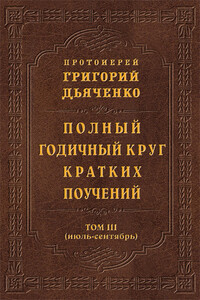Послания | страница 20
Примечания
[1] Так С: Т божеименно. [2] Т далее вписан и зачеркнут отрывок соборного приговора 1503 г. (ААЭ, т. I, № 382). [3] С дань. [4] С стригольник еретик; на этом кончается С. [5] Т в слове сшивает е написано по подскобленному [6-6] Т переправлено; было они речей никаких
Послание новгородского архиепископа Геннадия неизвестному (отрывок). 1492 г.
«Послание Геннадия неизвестному» до сих пор нигде издано не было. Отрывок этот, содержащийся в том самом сборнике (БИЛ, Муз. № 3271), где читается единственный полный текст соборного приговора и поучения 1490 г. и уникальный текст «речей посла царева» об испанской инквизиции, был упомянут в литературе лишь однажды — в описании этого сборника, сделанном А. Д. Седельниковым во вступлении к изданному им «Рассказу 1490 г. об инквизиции». Издатель (откладывая разъяснение своей точки зрения до специального издания) охарактеризовал приводимый текст, как «особую редакцию соответствующего места» из грамот Геннадия Прохору и Иоасафу, и указал, что она возникла «не ранее 1489 г., так как составлена по смерти еретика Алексея».[ ] Эта датировка и особенно определение памятника вызывают серьезные замечания. Действительно, в издаваемом памятнике имеются дословные совпадения с «Посланиями» Прохору и Иоасафу (стр. 311, 318, и 390), но еще больше дословных совпадений содержится между обоими упомянутыми посланиями (повторение сходных формул и целых абзацев в разных сочинениях — типичная черта в литературе того времени; Иосиф Волоцкий выписывал целые абзацы даже из чужих сочинений); из этого не вытекает, однако, что «Послание Иоасафу» есть лишь «особая редакция» «Послания Прохору». Значительного уточнения требует и датировка памятника. Он, несомненно, написан уже после смерти еретика Алексея (который во время написания послания Иоасафу был еще, повидимому, жив), но он написан также после другой даты — после «скончания седмой тысящи» 1 сентября 1492 г. Об этом неоднократно и совершенно определенно говорится в тексте: «Уже нашей седмыя тысящи лета изошли... седмь ты-сящь лет скончалось.. . седмь тысящь лет изошла...». Датировка «не ранее 1489 г.» (вместо «не ранее 1492 г.») в описании объясняется общей датировкой сборника 1491 годом, предложенной Седельниковым