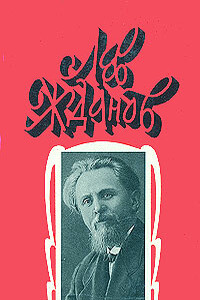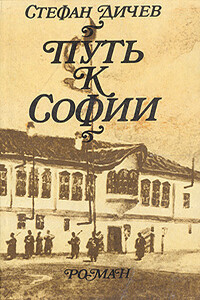За свободу | страница 10
Е. Маркович
Книга первая
Глава первая
Это было в четверг, накануне крещенья. Шел 1525 год. Несмотря на сырую и холодную погоду, перед одной из самых жалких лачуг Оренбаха стеной стоял народ. Деревня раскинулась в лесистой местности, справа от большой дороги, которая вела из Ротенбурга на Таубере через Среднефранконскую возвышенность на север, до самого Майна. Непроницаемая изгородь из терновника окружала деревню, и даже кладбище было обнесено толстой стеной, выложенной из булыжника. От церковной площади расходились во все стороны кривые, изломанные улочки, тянувшиеся между крестьянскими дворами, бревенчатыми и глинобитными домиками крепостных и поденщиков. По древнефранконскому обычаю крестьянский двор представлял собой замкнутый четырехугольник, и из жилья можно было попасть в хлев или сарай, не выходя из-под крыши. Но эти четырехугольники редко имели правильную форму. Крепостные жили хуже скота, да и вольные крестьяне не могли похвастать чистотой. Куры, утки, свиньи свободно разгуливали по комнатам. Стены и потолки почернели от копоти: дымоходы были редкостью, да и те из досок, обмазанных глиной. Еще реже встречались в окнах стекла, их заменяла толстая промасленная бумага. Дома тогда крылись большей частью соломой; считалось, что она дает больше тепла, чем драница. Что ни кровля, то аистово гнездо; что ни огород, то кусты бузины вдоль покосившегося сарая; что ни сад, то кривые стволы яблонь да неуклюжая хлебная печь. Повсюду следы упадка, запустения.
Крестьяне владели по праву наследственных арендаторов теми самыми участками, которые спокон века были собственностью их предков. Крепостные получали небольшие наделы в краткосрочную аренду. Ротенбургские патриции, или «именитые граждане», державшие в своих руках всю власть в городе, давно пришли к убеждению, что земля, обрабатываемая нерадивыми крепостными, которых сгоняют на работу фогты[7], приносит куда меньше дохода, чем у арендаторов, которые работают якобы на самих себя. Поэтому вольный город Ротенбург, владевший шестью с половиной квадратными милями земли и сорока пятью деревнями, обратил своих крепостных в свободных арендаторов и вменил им в обязанность вносить непомерно высокую арендную плату — разумеется, помимо всех прочих податей и налогов. Их свобода, в противоположность крепостным, принадлежавшим светским и духовным владетелям и городским патрициям, заключалась в том, что они, попав в нужду, имели полное право умирать с голоду, не обременяя своих господ заботами о себе. В те времена земледелие составляло основной источник доходов, и чем больше испытывали феодалы потребность в роскоши, тем сильнее исходили кровавым потом не только арендаторы, но и все крестьянство или, как тогда говорили, весь «бедный люд».