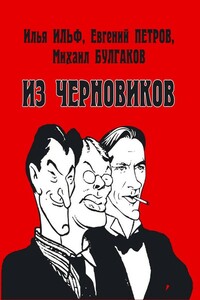История советской фантастики | страница 69
Выход в свет повести «Один день Ивана Денисовича» едва не расколол Секцию. И напрасно Кургузов дипломатично уверял своих соратников, что «произведение одобрено партией и, следовательно, хорошее», — ему нелегко было успокаивать подчиненных, тем более, что он сам в душе разделял их негодование. Закрывая экстренное заседание Секции (февраль 1963), Кургузов сказал неожиданно верную фразу, которая делает ему честь: «Мы должны доказывать свою точку зрения своими новыми фантастическими книгами, а не проявлением нашей фантастической обиды на других литераторов, даже если они в чем-то и неправы».
Увы Кургузову: в начале 60-х активно пишущие члены Секции — и те не создали ничего масштабного (по крайней мере, объемного). Так называемая «лунная серия» самого С.Кургузова, закругленная в 1962 году романом «Исправленному — верить!» оставила равнодушными даже былых поклонников «Катапульты». В то же время оппоненты Секции нанесли по самолюбию ее членов еще един удар.
Речь идет о повести Сергея Потапова «Четверо», опубликованной в первом выпуске альманаха «Последний экземпляр» (1963).
Прежде, чем перейти к повести, необходимо несколько слов сказать об этом уникальном издании.
Идея своего альманаха фантастики, наподобие существовавшей некогда «Селены», возникала в дерзком воображении многих авторов «новой волны» неоднократно. До 1956 года идея эта выглядела опасными, возможно, и уголовно наказуемыми мечтаниями. Даже после XX съезда, когда и самый недалекий человек мог осознать, что «в нашем часовой механизме» и впрямь что-то надломилось, мысль о собственном альманахе все равно выглядела утопической. И в Москве, и в Ленинграде, где был особенно бдителен Главлит, нечего было и пытаться осуществить эту затею.
Помогла случайность. Московский писатель Константин Паустовский, отдыхая летом 1962 года в Тарусе, познакомился с редактором Калужского книжного издательства Анной Софроновой. Выяснилось, что издательство готово попробовать издавать такой альманах и что нет только подходящих произведений — Калужская область была небогата крупными талантами. Заключив своеобразное джентльменское соглашение, Софронова и Паустовский начали действовать. В книге воспоминаний «Наедине с осенью» Паустовский потом признавался, что сам в одиночку едва ли смог бы довести дело до конца, победить инертность как всевозможных разрешающих инстанций, так и своих друзей, большинство из которых до конца не верили в успех. «Эта маленькая хрупкая женщина оказалась упрямой, как тысяча чертей, — замечал писатель. Два раза в неделю, взяв отгулы или просто за свой счет, она, как на работу, отправлялась на электричке в Москву: согласовывать тематический план, добывать бумагу, уговаривать авторов поторопиться. Аня проявляла чудеса храбрости и изворотливости. Каким образом ей удалось преодолеть все бюрократические рогатки, я не знаю. Лишь один раз, случайно, я стал свидетелем, как она смогла добиться подписи одного несговорчивого чиновника из Лито, нахально бравируя своим родством (мнимым, конечно) с очень влиятельным в те годы ретроградом, главным редактором „Огонька“ Анатолием Софроновым. Конечно, будущему альманаху тогда помогали, как могли, многие ведущие „новые“ фантасты — Солженицын, Гранин, Дудинцев, Потапов, даже некогда одиозный, но покаявшийся К.Булычев. Однако главная тяжесть все-таки легла на плечи этой женщины…»