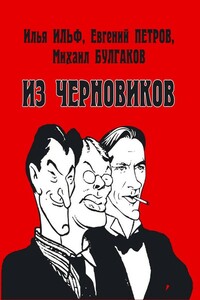История советской фантастики | страница 48
Обратим особое внимание на образ интеллигента-вредителя: в эти годы он был достаточно распространен в отечественной литературе. Блестящая работа молодого Николая Гриценко в фильме «Конец „Аризоны“», экранизации романа Марка Рутберга (1950, «Мосфильм», реж. К.Чиуарели), подкрепила этот типаж чисто визуально. Отныне образ изменника и космополита в массовом сознании начинал связываться с двумя-тремя внешними приметами — очками, шляпой, грамотной речью, легким грассированием. Подчиняясь патриотическому порыву, даже мода в СССР тогда двинулась как бы вспять: вновь вошли в обиход уродливые кепки-«малокопеечки» из 30-х годов, «пролетарские» диагоналевые брюки, вышитые рубашки-косоворотки. Ношение галстука опять делалось подозрительным; утвердительное «да» на вопрос анкеты «Владеете ли иностранными языками?» сразу заставляло отделы кадров настораживаться. «Положительные» герои тогдашней советской фантастики обязаны были ходить размашисто, одеваться бедно, говорить, в основном, междометиями или пословицами. В уже упомянутом романе «Далекое — близкое» Ильи Садофьева молодые конструкторы-ракетчики Каширин, Жерегин и Степанков в точности соответствовали новому стереотипу, а потому казались ярмарочными ряжеными. Диалог в экспериментальном цехе, долженствующий передать их обмен мнениями, производил прекомичное впечатление. («- Скажу тебе прямо, Миша, титановое, значит, покрытие тут в аккурат сгодится!» (…) «- Ну, нет, Алексей Фомич, вольфрам — самое милое дело. Как говорится, не имей сто рублей, а имей сто друзей…»). Право же, сегодня это напоминает беседу двух персонажей анекдота 70-х, один из которых уронил молоток, на голову другому: «- Ты не прав, Вася. — Извини, Коля». Между тем герои романа И.Садофьева, готовя корабль «Молния» для очередного полета на Луну, вступали в непримиримую схватку с консерваторами на производстве. Причем, по ходу действия выяснялось, что «консерватор» замдиректора Трубин является еще и низкопоклонником перед Западом и чуть ли не молится на их буржуазные технологии. Такой сюжетный оксюморон в ту пору отнюдь не считался самоубийственно-нелепым: раз наша пропаганда выставляла Запад всё более технически отсталым от нас, то низкопоклонник, естественно, был ретроградом, врагом всего нового. Само название произведения, «Далекое близкое», должно было подчеркнуть преемственность дел старых русских умельцев и их современных коллег. Потому-то забытый некогда секрет сварочного шва, разработанный мастеровыми еще при Петре и случайно найденный нашими героями, помогал им досрочно закончить первую линию сборки и выиграть соцсоревнование. Роман заканчивался рапортом товарищу Сталину и новыми социалистическими обязательствами. «А в небе победно светилась полная Луна, обещая нашим друзьям только хорошее впереди», — так выглядела последняя фраза произведения. О том, чем же именно занимались сварщики на Руси во времена Петра, автор так ничего и не рассказывал…