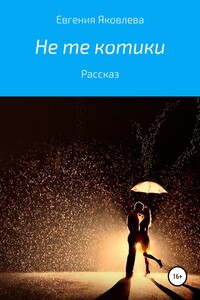Солнце и кошка | страница 76
Ночное небо над курзалом было подернуто мерцающим звездным туманом, звенели цикады, яркие светлячки проносились между кипарисами, стремительные, как трассирующие пули; над головами, пикируя из темноты, пьяно шарахались куда-то в сторону бесшумные, дымные тени летучих мышей... Мне было непонятно многое — имена, цифры, названия, но главное я ухватил совершенно отчетливо: лектор говорил о войне.
На обратном пути мы разговаривали об услышанном, переспрашивали друг друга, уточняли, не веря себе, отдельные фразы. Мать повторяла: «Но как же? Ведь заявление ТАСС... В нем ясно сказано...» Она была подавлена, раздражена. Отец едко усмехался в ответ: «Ты думаешь, зря они подмяли под себя всю Европу?.. И мы сумеем заткнуть им пасть нашей пшеницей, мясом, маслом?..» Она сердилась, ожидая утешений. А он не утешал. Тогда вмешался я и сказал что-то — в том духе, мол, что все равно, пускай сунутся — мы их «малой кровью, могучим ударом».
— Помолчи! — прикрикнула на меня мать.— На войне убивают. А ты еще маленький. Знаешь, кто первым пойдет на фронт? Твой отец...
Мне стало стыдно: и правда, сам-то я еще мал для войны... Однако я снова возразил — и опять в том роде, что «все равно» и «могучим ударом». Я надеялся, что отец меня поддержит. Но он ничего не сказал, только рассеянно и мягко погладил по голове.
Это было вчерашним вечером. А утро стояло такое ясное, светлое, такое ливадийское, такой легкостью и свежестью дышало прозрачно-голубое небо, такое лучезарное солнце поднялось из-за гор над еще тихим, воскресным нашим двором, над тремя серебристо-сизыми тополями у колонки, над узорчатой черепичной крышей напротив наших окон («Нынче день наш такой лучезарный»,— пела Эдит Утесова в те годы), что нам и вспоминать не хотелось о вчерашней лекции. И вставать не хотелось — чтобы весь этот уже наступивший, начавшийся день сохранить, сберечь в целости подольше, как наполняющее бумажный стаканчик мороженое, над которым в томительном искушении замирает деревянная палочка....
И вот мы лежали в своих постелях, обсуждали лукавые наши замыслы в связи с заманчиво-загадочной заграничной картиной «Песнь о любви», и я, для большего удобства, перекочевал в кровать к отцу. Я лежал, то есть вертелся и прыгал рядом с отцом, которого спустя четыре месяца убьют на Перекопском перешейке, под Армянском. А напротив, отделенная от нас крашеной фанерной тумбочкой, лежала мать, которая через полтора года умрет в Ташкенте, в туберкулезном диспансере. Тумбочка и зеленый абажур настольной лампы мешали ей видеть наши лица, и она, отодвинув от кроватной стены подушку, опиралась на нее локтем. Волосы ее, разливаясь золотистым потоком, накрывали руку и подушку, глаза, в то утро голубые, смеялись — что бывало так редко! — наблюдая за нами, и столько было в них нежности, столько любви, столько явного, ничуть не скрываемого любования нами обоими, что меня будто перышко щекотало между лопаток.