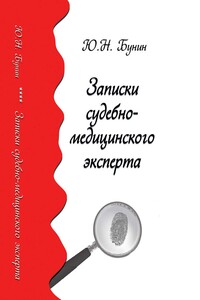Солнце и кошка | страница 45
У колхозников и колхозниц, отдыхавших в санатории, были пропеченные солнцем, красные лица, крепкие, смуглые до локтей руки и бледные, нетронутые загаром тела, застенчивые, непривычные к пляжной наготе. Все держались смущенно, как дети, особенно в первые дни,— ходили по парку группами, старательно, как строгий урок, выслушивали объяснения экскурсоводов, останавливаясь перед экзотическими растениями, читали таблички, переспрашивали друг у друга названия. Мужчины задирали подбородки, чтобы охватить единым взглядом грандиозную мощь мамонтова дерева, женщины нагибались, тянулись к розовому кусту, нерешительно ступив ногами в парусиновых тапочках на каменный бордюр клумбы. Они вдыхали, вбирали в себя аромат, невидимым облачком окутавший полураскрытый бутон, их напряженные шеи трогательно походили на цветочный стебель. Глаза были зажмурены, лица — молитвенно-блаженны...
В такие минуты я чувствовал себя старожилом, принимающим гостей. Мне было приятно, что им нравится Крым, наша Ливадия, и хотелось чем-нибудь ободрить их, услужить, как подобает хозяину. Иногда мне везло. Компания «санаторников», идущая навстречу, вдруг останавливалась, окружала меня, чтобы выяснить, как у «местного», какой дорожкой короче спуститься к морю или где сесть на ялтинский автобус.
— А что это за дерево, хлопчик? — обращался ко мне какой-нибудь уважительно улыбающийся усач, клоня вниз свое двухметровое тело, или девушка, у которой на круглом скуластеньком лице, обсыпанном ржаными веснушками, светились васильковые глаза, а на высокой груди к синему, в обтяжку, жакету был привинчен новенький орден.
Я смотрел на усы, почти чапаевские, чуть не щекотавшие мне щеку, смотрел на орден, который был так близко, что я мог потрогать его рукой... Я обмирал от восторга и на время лишался голоса. Девушка, смеясь, гладила меня по голове и повторяла свой вопрос.
— Бесстыдница! — окончательно шалея, орал я, тыча в диковинное дерево, которое на лето сбрасывало кору, обнажая гладкий розовато-коричневый ствол. По-ученому называлось оно земляничным, но в обиходе у нас было более меткое определение.
Мужчины озадаченно переглядывались, женщины, отвернувшись, прыскали в кулак, я немел от отчаяния и мчался к себе во двор, чтобы, придя в себя, рассказать всей нашей ораве про усы и про орден.
По вечерам во дворце зажигались огни. На нижнем этаже за длинной колоннадой, за высокими,- настежь распахнутыми окнами, в бальном зале, выстланном плитками черного паркета, гремела музыка. Колхозников и колхозниц, обучали модному танцу «фокстрот». Порой его бурный, для тех лет.— неистовый ритм обрывался, утомленный культмассовик объявлял «русского», «барыню» или «гопак». Тогда я вскакивал со скамеечки и бежал к окну. Дворец вздрагивал от бешеной чечетки, покачиваясь, звенели хрустальные люстры, по залу, трепеща в поднятых руках, плыли разноцветные платочки, вихри крутящихся юбок взмывали, сшибались над полом, который горел от воска и в пляске, топоте, перестуке крепких каблуков казался раскаленным, как сковородка.