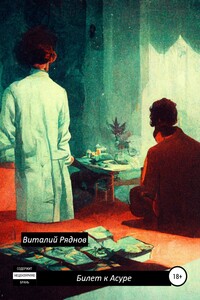Солнце и кошка | страница 37
Мы сворачивали на проселочную дорогу. Если она спускалась в сторону моря, Маруха оскальзывалась, выгибала круп, удерживая, притормаживая линейку, и дух занимался от возможности скатиться в колючий кустарник, в чащу граба и кизила, которыми поросли склоны. На крутых поворотах мы слезали с линейки и шли пешком. Если же дорога ползла в горы, приходил мой час: лошадь ступала медленно и мне давали править. Умостясь на передке, я крепко стискивал в кулаках ремни, пахнущие сырой кожей и кислым конским потом, отглянцованные кучерскими ладонями — и не было ничего слаще их запаха, ничего милее, чем нечаянное колючее прикосновение жесткого Марухиного хвоста, когда он всплесками сгонял с лоснящейся от испарины лошадиной спины кусучих лесных мух...
Мало-помалу отступали приземистые заросли граба, дикой малины, кусты шиповника в розовых и белых цветах с вьющимися над ними басистыми шмелями. Все чаще взгляд натыкался на сосны, они становились все выше, мощнее, пока наконец не пропадали все прочие деревья.
Перед нами распахивался бор.
Бор... Торжественное, органное слово... Раскатистый шум, проплывающий по вершинам и затихающий вдали... Коричневатые иглы, в которых скользит и тонет нога, вязнет и пропадает всякий звук... Неохватные стволы, теплые, в растресканной коре, покрытой седыми натеками смолы и еще свежими, огнисто-прозрачными слезками...
Однако я уже нетерпеливо жду конца путешествия, которое начинает казаться мне слишком затянувшимся, жду, когда впереди, за поворотом, откроются корпуса санатория... Здесь, где-нибудь на заднем дворе, заросшем лопухами, или прямо в лесу, на полянке, мы с Никитой распрягаем лошадь, я бегу нарвать травы, хотя и вокруг ее много, куда бежать?.. Но я бегу — подальше, туда, где трава сочней, шелковистей. Маруха так аппетитно хрумкает, пережевывая стебли, что я и сам, глядя на нее, сглатываю слюну.
Потом Никита спит в тенечке, Маруха отдыхает под моим присмотром, а я поглядываю на санаторный корпус, в котором скрылся отец, и жду, когда он снова появится и будет принадлежать мне, только мне — безраздельно. Весь долгий обратный путь...
Потому что — помимо прочих радостей — главная радость таких путешествий заключалась в том, что мы оставались вдвоем. Но одной из этих поездок я обязан потрясением, едва не разрушившим нашу близость, потерей чего-то такого, что, при всей любви моей к отцу, полностью никогда уже не было восстановлено, забыто, прощено.