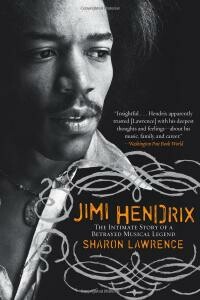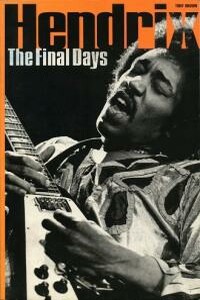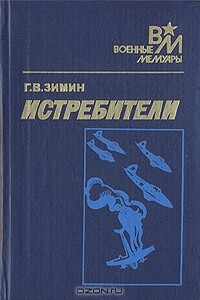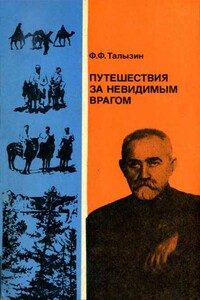Моя жизнь | страница 21
Как быть?
Оставаться паинькой?
Молиться по утрам и вечерам, и вообще сопровождать молитвой каждый шаг и каждый проглоченный кусок?
Или забросить все книги и молитвенные одеяния да бегать вместо синагоги на речку?
Я боялся наступающей зрелости, боялся, что у меня когда-нибудь появятся признаки взрослого мужчины, вырастет борода.
Когда меня осаждали эти грустные мысли, я целый день бродил в одиночестве, а к вечеру разражался слезами, как будто меня побили или умер кто-нибудь из родных.
Через приоткрытую дверь я смотрел в темную большую гостиную. Никого. Только зеркало висит себе, одинокое, холодное, да таинственно поблескивает.
Я редко смотрелся в него. Вдруг кто-нибудь увидит, как я любуюсь сам собой.
Длинный нос с ох какими широченными ноздрями, торчащие скулы, грубый профиль.
Но иногда я задумывался, созерцая себя.
Я молод, но зачем мне это?
Зачем я расту? В зеркале отражается бесполезная и недолговечная красота.
Раз мне уже тринадцать, конец детской беззаботности, отныне за все свои грехи я отвечаю сам. Так, может, не грешить?
Я громко хохочу, и в зеркало брызжет белизна зубов.
В один прекрасный день мама взяла меня за руку и отвела в городскую гимназию[12]. Едва увидев здание, я подумал:
«Наверняка у меня здесь заболит живот, а учитель не разрешит выйти».
Хотя, что и говорить, кокарда — штука соблазнительная.
Ее прикрепят на фуражку, и, возможно, надо будет отдавать честь прохожим офицерам?
Мы ведь все равны: чиновники, военные, полицейские, гимназисты?
Но евреев в эту гимназию не принимали. Моя отважная мама тут же отправилась к учителю.
Он — наш спаситель, единственный, с кем можно договориться. Пятьдесят рублей — не так уж много. Я поступаю сразу в третий, в его класс.
Надев форменную фуражку, я стал смелее поглядывать в открытые окна женской гимназии.
Форма была черной.
Мое естество громко возмущалось. И наверняка я еще больше поглупел.
Учителя носили синие сюртуки с золотыми пуговицами.
Я взирал на них с благоговением. Какие они ученые!
Откуда они взялись и чего хотят от меня?
Я смотрел в глаза Николаю Ефимовичу, изучал его спину и светлую бороду.
И не мог забыть, что он принял взятку.
Другое дело — Николай Антонович, вот уж кто, без сомнения, был самым настоящим ученым. Весь урок он мерял класс размашистыми шагами. Правда, он читал реакционные газеты, но все равно он мне больше нравился.
Я не всегда понимал смысл замечаний, которые он делал некоторым ученикам.