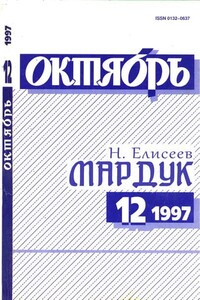Против правил | страница 40
Такой культ дома, семьи, традиции позволил бы мне назвать прозу Ржевской консервативной прозой, если бы я не опасался сбиться на сделавшиеся пошлостью рассуждения о том, что-де только после сокрушительной революции и становится возможен естественный традиционный консерватизм; не оголтелая реакционность, но исполненный достоинства и уважения к личности консерватизм. Насколько сама Ржевская понимает консервативную природу своего творчества – это для меня загадка, как и многое в ее творчестве, но, во всяком случае, недаром в «Далеком гуле» с таким искренним восхищением описан Черчилль. Пузатый, буржуистый Черчилль, Черчилль, нависающий над лондонской баррикадой и твердо выговаривающий в дни страшного дюнкеркского разгрома: «Если и через сто лет нас спросят, какое время было самое прекрасное, мы скажем: это время. Самое прекрасное». Здесь не только уважение к союзнику, тогда, в 1940-м, оказавшемуся один на один с врагом, здесь… инстинкт настоящего консерватора, способного включить в реестр сохраняемого (того, что, собственно говоря, консервируется) многое, в том числе и революцию. Черчилль на баррикаде – ей-ей, этот оксюморон стоит запомнить.
Ниже уровня моря
Семь петербургских точек Хольма ван Зайчика и его «Евразийская симфония»
Qui s´excuse, s´accuse (Кто извиняется, тот обвиняется) – тем не менее я начну с извинений. «Ниже уровня моря» – это не про водолазов. Это – попытка ответа на замечательную статью Ирины Роднянской «Ловцы продвинутых человеков».
Кажется, Честертон писал: «Когда одни говорят: этот человек – слишком высок, а другие про того же человека: он – слишком низок, будьте уверены – этот человек нормального роста». Когда одни обвиняют Хольма ван Зайчика в русском фашизме, а другие – в хитром подрыве изнутри русской православной цивилизации, можно быть уверенным: Хольм ван Зайчик – ни в каком случае не фашист и не антипатриот. Так можно было бы отшутиться, если бы статья Ирины Роднянской не была бы столь верной. Ее несогласие с Хольмом ван Зайчиком – принципиального свойства. Она не потому не принимает Хольма ван Зайчика, что не поняла его, а напротив – потому, что слишком хорошо его поняла. Судите сами: Хольм ван Зайчик полагает, что к истине ведут самые разные пути – и христианство, и конфуцианство, и ислам, и буддизм, и иудаизм; Ирина Роднянская полагает, что путь к истине – один: христианство. Хольм ван Зайчик полагает, что главное в религии (или в религиях) – великолепная социальная регулировка общества, для Ирины Роднянской сама мысль об измерении уровня социальной полезности религии (или религий) – не столько даже кощунственна, сколько нелепа. Социальная полезность получается сама собой, не это главное, главное – личностное, космическое и экзистенциальное, а социальное – уж как получится. Кто прав в этом споре? Разумеется, и тот, и другая. Это – нерешаемый спор, это спор антиномий. Поэтому, чтобы не вторгаться в полемику, в которой прав каждый, я решил прислать текст о Хольме ван Зайчике как о типичном представителе петербургской культуры, петербургского утопического проекта. Просто захотелось продемонстрировать читающей публике, что о Хольме ван Зайчике есть и другие мнения.