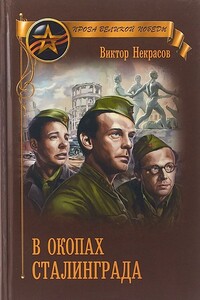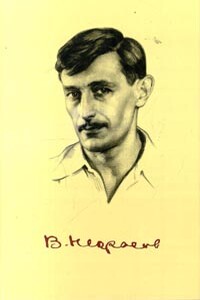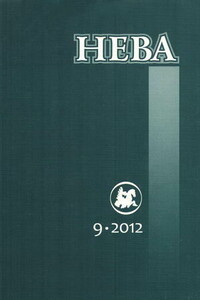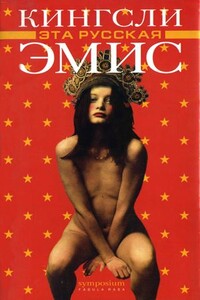По обе стороны Стены | страница 14
Мы тоже кричали «За Родину! За Сталина!». Но мы другое дело. Разве мы захватчики? Мы освобождали, воссоединяли, обороняли свою родину. От Финляндии в том числе (война, на которую в художественной литературе наложено строгое «табу»), «мы чужой земли не хотим, но и своей, ни вершка своей земли не отдадим!» С вершками что-то не очень получилось, но кончилась война всё же в Берлине, а не в Москве. И чужих земель, которых не хотели, вдруг захотели и наприсоединяли вдоволь. И отгородились Стеной.
Но это сейчас. Тогда же, тридцать с лишним лет назад? За что мы воевали? Да не «за», а «против». «Бей фашиста!», «Убей немца!». Ясно и просто. В конечном итоге всё это привело к тому, к чему привело. Тоталитаризм сменил просто окраску — коричневую на красную. Могли ли мы, воевавшие, предвидеть это? Нет! Казалось, что война кое-чему научила — отучила от бахвальства, вранья, научила смотреть правде в глаза. Наконец-то!
Так думали мы тогда, в Сталинграде, и потом, обнимаясь, целуясь и стреляя в воздух после победы. Всё обернулось совсем-совсем иначе. Но память о тех днях, днях, когда мы во что-то верили, свята. Поэтому мы, уцелевшие, вспоминаем о них, как о чем-то светлом, хотя это была и смерть, и кровь, и грязь.
Вот почему, дорогой Жан-Мари, Митясов тоскует по своей части, по своим фронтовым друзьям. В «Родном городе» этих размышлений нет — не обо всем у нас напишешь, да и писалась книга четверть века тому назад, когда мы еще за что-то цеплялись, считали, что всё же чем-то что-то искупили.
А сейчас и цепляться не за что.
В самый разгар вьетнамской войны встретился я в одном доме с летчиком. Дом этот был Сергея Параджанова, где всегда принимали широко и весело. Летчик, молодой парнишка, служил во Вьетнаме и получил отпуск для лечения. Направление было в какой-то западноукраинский курорт, попить нафтуси или чего-то от почек. По дороге пересекся где-то с Сергеем и никак не мог вырваться из Киева. Пятый или шестой день пытался добраться до вокзала. Забегал на минутку попрощаться, выпить стремянную, и поезд уходил без него. Я застал его уже со стремянной в руках, на балконе, более или менее тепленьким. Он был бледен, молчал, крутил в руках стакан, потом начинал говорить и не мог уже остановиться:
— Понимаешь, живем за колючей проволокой. Никого не видим. Варимся в собственном соку, дружим, ссоримся, пьем… Вьетнамцев и в глаза не видим… Где-то они там, чёрт знает где… Потом приказ — в воздух! И поднимаемся, летим, чтобы сбить какого-то Джона из Оклахомы… Зачем? Почему? Что он мне сделал? С Америкой мы не воюем, почему я должен в него стрелять? За какой идеал я воюю? За какую правду? Вьетнамскую? А подавись они, косоглазые, век бы их не видел. Но приказ есть приказ… И у Джона приказ… И вот сбил Джон моего кореша, Ваньку Сидорова. Сбил и всё, нет Ваньки. Вот только зеркальце от него осталось… Возьми на память… Выпьем за Ваньку, мировой парень был.