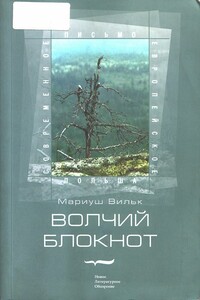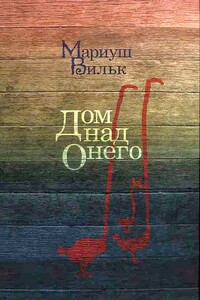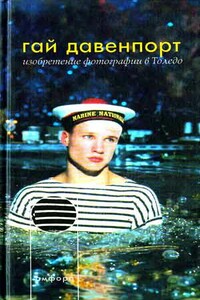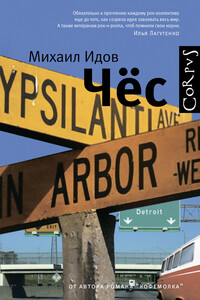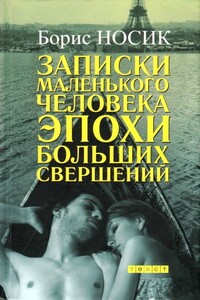Волок | страница 19
Во-вторых — Братковский возрождает мифы о вечевой демократии Новгорода Великого (именно демократические идеалы Древней Руси, воплощенные в новгородской республике, якобы замалчивали историки-патриоты московского самодержавия и их советские эпигоны — идолопоклонники советской империи, однако забавно, что сам Стефан Братковский чаще всего ссылается на советских мэтров истории — Рыбакова и Грекова), а самое понятие «вече» приобретает новое значение — автор «Господина Великого Новгорода» связывает его с «тем, кто ведает»; автор же «Этимологического словаря русского языка» — с теми, кто болтают. Достаточно послушать заседание польского Сейма или российской Думы (которую народ прозвал «говорильней»), чтобы убедиться — там больше болтают, чем знают. Так что можно себе представить, как выглядело это вече полудикой Руси на глухом Севере.
Впрочем, к чему напрягать воображение, ведь имеются летописи — образы новгородских вече запечатлены в них, словно на старых фотографиях, и имеют мало общего со стереотипами «Господина Великого Новгорода». Итак: на вече являлся каждый, кому не лень, зачастую под хмельком, и шум стоял тот еще (Ключевский шутил, что «решение составлялось на глаз, лучше сказать на слух, скорее по силе криков, чем по большинству голосов»), нередко дело доходило и до кулаков; бывало также, что проходили два вече на двух концах города одновременно, после чего одни на других толпой шли — с каменьями, с палками…
«Разъярившись, — читаем в «Новгородской первой летописи младшего извода», — словно пьяные, двинулись на иного боярина, на Ивана на Иевлича, на Чуденцевой улице, и его дом, и много других домов боярских разграбили; и монастырь святого Николы на Поле разграбили, восклицая: «Здесь житницы боярские». И еще в то утро на улице Людгощи грабили много дворов, восклицая, что «они суть нам супостаты»; и с того часа начала злоба множиться, прибежали они на свою Торговую сторону и сказали, что Софийская вперед хочет на нас вооружаться и дома наши грабить; и начали звонить по всему граду, и начали люди сбегаться, точно на бой, в доспехах, на Мост Великий; многие из них погибли: эти от стрелы, те от меча и мертвые были, как на войне. И страх охватил весь град».
События эти имели место в 1418 году — то есть не на заре новгородской республики, когда их можно было объяснить отсутствием демократических традиций, а на закате ее существования.
Основываясь на летописях, историк Соловьев насчитал в Новгороде двенадцать смут с момента смерти Ярослава Мудрого до татарского нашествия и двадцать — с момента нашествия татар до эпохи Ивана III. Василий Ключевский назвал устройство Новгорода «поддельной демократией» — ключевую роль в ней играли боярские клики, манипулировавшие чернью в своих интересах. Словом, новгородская охлократия, по сути, маскировала правление олигархии. Подобной точки зрения придерживались и другие историки — Платонов, Вернадский или Геллер, — причем эти ученые принадлежали к разным историческим школам, а потому трудно заподозрить их всех в пристрастии к марксистским стереотипам.