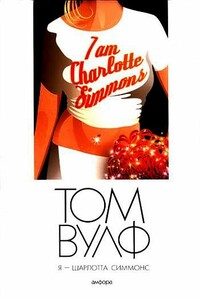Избранное | страница 18
Жофи тоже испытывала неловкость — что-то было не так в этой сцене — и все корила себя, что становится такой же, как прочие вдовы. Несколько дней после того она ходила, надвинув по самые брови свой вдовий платок, и пересказывала свекрови сон, в котором видела покойного мужа. Но именно тогда ей стала вдруг совсем иначе видеться их нежданно-негаданно оборвавшаяся семейная жизнь. Пожалуй, не такой уж хороший человек был ее Шандор, каким все представляют его теперь, после смерти. Что правда, то правда, говорил он красно, не злой был и подластиться умел, если хотел, но разве не поминали его — еще и двух месяцев не прошло после свадьбы — вместе с рыжей корчмаршей из «Муравья»[4]? Жофи не стала тогда слушать сплетни, отвадила шептунов, но ведь кто знает, немало пива выпил бедняга Шандор в «Муравье» и вряд ли тянуло его туда из-за одноногого слуги, что разносил кружки, подпрыгивая на своей деревяшке. Натура у Шандора была широкая, к хозяйству большого интереса он не имел — на войне был сержантом, привык жить по-барски. Поохотиться, посидеть за кружкой пива, книжку почитать или прогуляться по селу в щегольских бриджах — вот это было по нем. Он предпочел пойти в Сберегательный банк кассиром, только бы от хозяйства подальше. Жофи, пока носила Шанику, видела его от силы два вечера в неделю; и все чаще вспоминались ей вечера, когда он разговаривал с нею грубо, а однажды рявкнул: «Заткнись, не то пришибу…» Сейчас, задним числом, ей особенно больно было, что свою мать, эту ленивую толстуху, он почитал куда больше, чем ее, требовал, чтобы Жофи вскакивала и мигом исполняла все ее приказания. Правда, Жофи тоже не поддавалась: бывало, они до полуночи пререкались, лежа в постели, и Шандор долго потом осыпал поцелуями ее разгневанную спину, чтобы Жофи повернулась к нему, — странное дело, эти пререкания помнились сейчас куда явственнее, чем поцелуи; часто ей приходило на ум, что когда-нибудь она была бы очень несчастна с мужем, пожалуй, еще несчастнее, чем теперь.
Между тем прошла весна, за нею лето; люди только и говорили что о ценах на урожай, усердно лопатили зерно в амбарах, поднимали жнивье; состоялось и судебное разбирательство, на котором Шемьен был оправдан; теперь, когда Жофи шла по улице, здоровались с нею уже не издали. Если завязывался разговор, о трауре не поминали — спрашивали о сынишке, который как раз начал делать первые шаги на толстеньких ножках; да и сама Жофи уже осмеливалась иной раз оглядеться из-под вдовьего платка, и, как ни серьезно было выражение ее лица, в глазах светилась молодость. Год траура наполовину остался позади. Жофи иногда уже открывала шкаф и посматривала на свои цветастые платья, ласкала их взглядом. В первый раз она наденет какое-нибудь из них на будущую пасху, сейчас-то еще совестно было бы… Бедный Шандор, словно только что умер! И Жофи глубоко вздыхала, чтобы сдуть хоть немного пепла забвения, толстым слоем оседавшего на сердце.