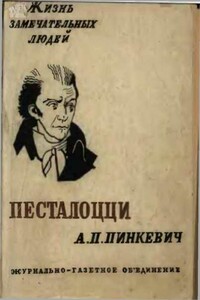Детство с Гурджиевым. Вспоминая Гурджиева (сборник) | страница 85
Однако, мысленно возвращаясь в том возрасте к таким событиям, как моя ситуация с мисс Мэдисон, я задавался вопросом о том, что Гурджиев сделал с ней? Каково было воздействие на неё, когда он награждал всех тех, кто не повиновался её приказам? Почему он наделил её полномочиями власти? Конечно, мисс Мэдисон физически присутствовала, как ответ на эти вопросы. Она, казалось, стала более чем просто последователь, более чем преданный ученик, и, очевидно, не спрашивала, что он с ней сделал. Но было ли это, в конце концов, ответом? Не являлось ли это просто доказательством того, что мисс Мэдисон была подавлена его магнетизмом, его силой?
Тогда я чувствовал – и у меня не было причины изменить это чувство или мнение почти сорок лет – что Гурджиев, возможно, искал какого-нибудь человека или какую-нибудь силу, которые хотели и могли бы противостоять ему на самом деле. В Приоре, конечно, не было таких оппонентов. Даже в том возрасте у меня возникло определённое презрение к униженной преданности его последователей или «учеников». Они говорили о нём пониженным тоном; когда они не понимали определённых утверждений, которые он говорил, или что-нибудь, что он делал, то винили себя, – на мой взгляд, слишком охотно, – за отсутствие проницательности; короче говоря, они поклонялись ему. Атмосфера, которая создавалась группой людей, которые «поклонялись» некой личности или философии, казалось тогда – и ещё кажется теперь – тем самым несла в себе зародыш собственного разрушения; это, конечно, давало повод их осмеивать. То, что приводило меня в недоумение, были насмешки самого Гурджиева над его наиболее убеждёнными и преданными последователями (свидетельство этому – случай с дамами и «знаменитым старым вином»). В моей наивной детской манере я полагал, что он любил делать всё ради «шутки» – над кем угодно – просто чтобы посмотреть, что из этого получится.
По моему мнению, Гурджиев не только играл в игры со своими учениками, но эти игры всегда «складывались» в его пользу. Он открыто играл против людей, которых он в лицо называл «овцами», людей, которые, вдобавок, принимали это определение без протеста. Среди благоговейных учеников было несколько таких, кто устраивал с ним устный обмен колкостями, но, в конце концов, они казались теми, кто был наиболее «одержим» или «предан»; смелость шутить с ним стала доказательством некоторой близости с ним – привилегией, которая была им дана из-за полного согласия с его идеями, а не в смысле оказания сопротивления. Сопротивлявшиеся не оставались в Приоре, чтобы обмениваться добродушным подшучиванием, и им не разрешалось оставаться, чтобы бросить вызов или противиться Гурджиеву – «философское диктаторство» не терпело сопротивления.