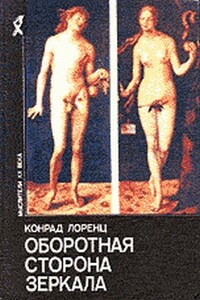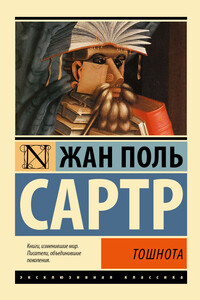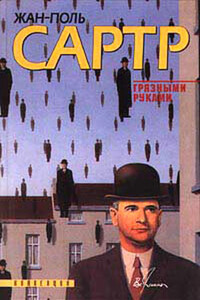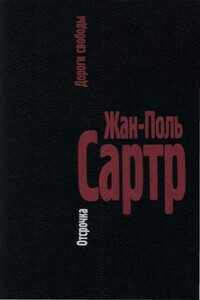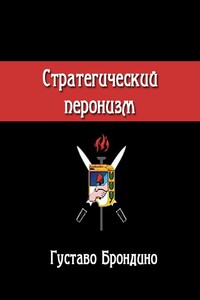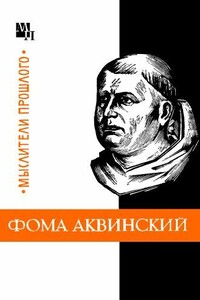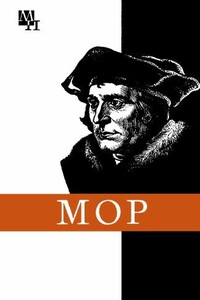Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии | страница 13
Индивидуальное сознание не может быть понято без анализа социальности, интерсубъективности. Этой проблеме посвящена самая интересная и самая большая третья часть книги. Бытие для себя предполагает бытие для другого. Социальный характер сознания личности Сартр раскрывает через детальное исследование социально-психологического феномена «взгляда». Здесь он фактически расширяет и углубляет положение Гегеля и Маркса о том, что каждый смотрится в другого, как в свое зеркало: границей моей свободы оказывается свобода другого; под взглядом другого я становлюсь объектом, но и другой становится объектом под моим взглядом; если бы не было другого, я бы никогда не смог быть для себя объектом, не имел бы самосознания. Однако и тут главное внимание Сартр фиксирует на негативной, отчуждающей функции сознания как свободы. Всякое опредмечивание обнаруживает себя только как отчуждение, враждебность и чуждость. Хотя свобода другого и не может быть отчуждена, конфликт является основой отношений людей друг с другом. Многие критики справедливо указывали на то, что Сартр преувеличивает конфликтность во взаимоотношениях между людьми. Правда, философ не отрицает возможность солидарности, милосердия и т. п., но не с онтологической точки зрения, а с моральной, основание для которой в своей работе он не дает. Наиболее остро ставится им проблема свободы и ответственности в последней, четвертой части книги, где речь идет о действии. Несмотря на сугубо абстрактный философский язык и отдаленные исторические примеры, внимательный читатель увидит в ней побуждение к действию против существующего порядка в период оккупации. Человек осужден на свободу, он или свободен, или его нет. Абсолютная свобода предполагает и абсолютную ответственность за все происходящее. Сартр склонен отождествлять выбор, намерение и действие. Он пишет: «Наше описание не различает между выбором и действием», «Нельзя больше отделять намерение от действия, как мысль от языка, который ее выражает». Абсолютная свобода, полная необусловленность выбора, неизбежно влекущая за собой его абсурдность, — все эти положения философа вызывали обоснованную критику. Так, в конце своей работы «Феноменология восприятия» Мерло-Понти пишет: «Если в действительности так, что наша свобода та же самая во всех наших действиях и даже в наших страстях… если раб обнаруживает свободу, как живя в страхе, так и разрывая свои цепи, тогда нельзя считать, что есть такая вещь, как свободное действие»