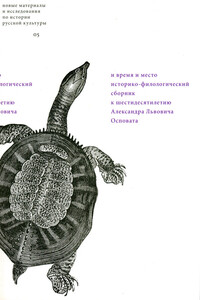СССР: Территория любви | страница 17
Как бы то ни было, хрестоматийные примеры советской лирики и, в частности, песенной лирики 1930–1950-х годов свидетельствуют о том, что в очень значительном количестве случаев мы собственно не можем определить, кому адресуется любовное признание автора стихотворения или песни — человеку или социалистической родине. Метафоры любви во всяком случае подчинены метафорам социального долга. А о такой любви молчать, конечно, нельзя.
Примеров, иллюстративных к тому, как персонально-интимное встраивается в социально-экспликативное, в советской литературе и, в частности, песенной лирике очень много:
(В. Лебедев-Кумач, «Песня о Родине»);
(Б. Корнилов, «Песня о встречном»; музыка Д. Шостаковича);
(Л. Ошанин, из кинофильма «По ту сторону»);
(Е. Долматовский, из кинофильма «Они были первыми»);
(Ф. Лаубе, «Солдатские сны»[21]);
(В. Лазарев, «Березы»);
(М. Исаковский, «Под звездами балканскими»);
(М. Лисянский, С. Агранян, «Моя Москва»)
и т. д. и т. п.
Еще один — собственно риторический — нюанс в экспликации любовного молчания выражается в том, что в отличие от традиционного для европейской литературы изображение любовного молчания в советской литературе сталинской эпохи дается, как правило, со стороны: не я молчу, но кто-то молчит о любви, при этом молчание влюбленного героя оказывается вполне мнимым, так как дублируется изобличающими его жестами. Так, в знаменитой песне Исаковского: