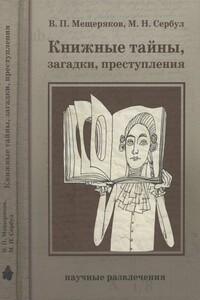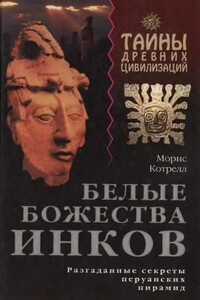Знание-сила, 2000 № 12 (882) | страница 7
Нотка свободы, нотка борьбы – тут уже журнал не был одинок и уникален. Была еще, например, «Химия и жизнь» черненковская; правда, для меня там всегда было многовато химии и маловато человека – не гуманитарии даже, а просто человеческой ноты. И наук много, и знаний много, а человек-то один. И все это в нем помещается. И надо, чтобы был журнал, который как зеркало – чтобы в нем все помещалось, как во мне. В этом журнал и в 70-е годы оставался совершенно уникален. Но я уже понимал, что это все усилиями дается. Борьбой.
Я уж не знаю как, но эта борьба стала частью меня и моей жизни.
Мы когда-то встречали восьмидесятые годы, провожали семидесятые, и я всех спрашивал: какие года интереснее – шести- или семидесятые? Большинство отвечало: что за вопрос! Конечно, шестидесятые. Я тогда так не думал и не думаю до сих пор.
Я считаю, что семидесятые – годы стратегического отступления давящей идеологии и идеологического управления страной. Это было еще не паническое бегство, как в восьмидесятые, это было еще стратегическое отступление. Они еще огрызались, и надо было к этому относиться очень серьезно. Надо было брать каждый кусок, понимая, что вот эту высотку ты сегодня занял, завтра тебя собьют с нее, но послезавтра ты ее все равно возьмешь. Год за годом шло все лучше и лучше. Люди менялись, мысли их менялись, привыкали, что можно читать, можно знать. Все стало серьезней. И ставка была очень высока. Это годы побед, настоящих побед, хотя и людей арестовывали, и без конца что-то запрещали…
Журнал стал заточенным на противодействие властям. Нацелен. Сознательно. Выглядело это так: как только оказалось, что идеология не держит страну, она начинает отступать, – журнал шел за ней по пятам, захватывая все, что можно захватить. Я не знал тогда, как это все давалось: опубликовали статью – не опубликовали, кому потом за это врезали (все это составляло, по-видимому, суть деятельности Нины Сергеевны Филипповой) – меня все это не касалось. Я должен был получить номер, который был как боевая сводка, идейная боевая сводка: вот что они здесь сказали, значит, уже можно, уже отвоевано.
Я сейчас вспоминаю статьи Мейена, Яблокова, Любищева – вроде бы эго все в стороне и от борьбы, и от первых шагов к самопознанию: где мы оказались к этому моменту, кто мы теперь такие, куда нам двигаться дальше. Напрямую журнал этим не занимался, напрямую я ответы на эти вопросы искал в других местах. Но ведь все это люди, которые сами были намного шире и глубже своей плановой научной темы, своей плановой научной, формализованной, втиснутой в рамки сугубо научной коммуникации статьи – вот вся эта внутренняя человеческая свобода мысли была одновременно и частью борьбы за свободу вообще, свободу думать за рамками идеологии и за рамками профессиональных ограничений, и одновременно это было вырабатывание языка, способа думать свободно.