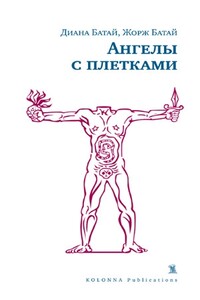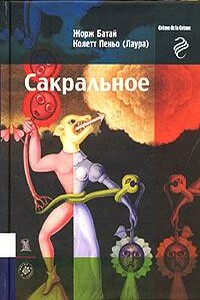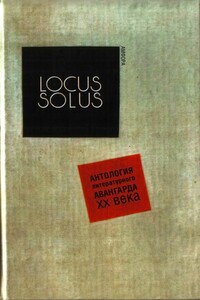Внутренний опыт | страница 8
Именно отделение транса от области знания, чувства, морали обязывает конструировать ценности, объединяющие вовне элементы этих областей в виде авторитарных понятий, тогда как незачем было ходить за этим так далеко; наоборот, следовало вернуться в себя, чтобы там найти то, чего стало не хватать с того дня, как начали оспаривать эти конструкции. Но вернуться “в себя” вовсе не значит уединиться, это значит стать местом сообщения, сплавления субъекта и объекта.
III. ПРИНЦИПЫ МЕТОДА И СООБЩЕСТВА
Когда неистовства сознания разметали упомянутые мною строения, чувство утраты овладело человеческой жизнью (но это не было еще полным крушением). Поскольку такое сообщение заходило слишком далеко, сплавление, достигавшееся посредством медитации над объектами, которые имели (подобно Богу) патетическую и драматическую историю, оказалось недоступным. Стало быть, нужно было выбирать: или оставаться непреклонно верным догмам, которые попали в область критики, или отказаться от единственной формы пламенной жизни,от сплавления.
Любовь, поэзия — в романтической форме — были теми путями, на которых мы искали убежища от одиночества и увядания жизни, разом лишившейся своего очевиднейшего исхода. Но когда-нибудь эти новые пути перестанут отличаться от прежнего, а прежний уже давно стал недоступным, или стал казаться таковым для всех, кого затронула критика: тем самым их жизнь была лишена доли возможного.
Иными словами, состояние экстаза или восхищения достижимо лишь благодаря драматизации существования вообще. Долгое время главную роль в этой драме играла вера в Бога, который был предан, но любит нас (до такой степени, что умирает за нас), искупает нашу вину и спасает нас. Но ведь нельзя сказать, что с утратой веры драматизация становится невозможной: в самом деле, она известна и другим народам, которые воспитывались не на Евангелии, но экстаза достигали через нее.
Во всяком случае, можно сказать следующее: есть в драматизации некий ценностный ключ — в виде какого-то несомненного (решающего) элемента, — без которого получается не драма, а безразличие. Так, в момент, когда драма настигает нас или, по меньшей мере, когда можно почувствовать, что она задевает в нас человека вообще, мы соприкасаемся с авторитетом, что и учиняет драму. (Соответственно, если в нас есть авторитет, ценность, то имеет место и драма, ибо к авторитету следует относиться с полной серьезностью.)
Драматизация присуща всякой религии, но если она является всецело внешней и мифологической, то может иметь сразу несколько независимых форм. Происходит сопряжение жертвоприношений, имевших разные источники и цели. Но каждое из них — в тот миг, когда умерщвляется жертва, — знаменует крайнюю степень некоей драматизации. Мы не могли бы покидать себя, если бы не умели драматизировать. Мы жили бы в одиночестве, в сосредоточенности на себе. Но какой-то разрыв — когда нас одолевает тоска — доводит до слез; тогда мы теряем себя, забываем себя, сообщаемся с неуловимой запредельностью.