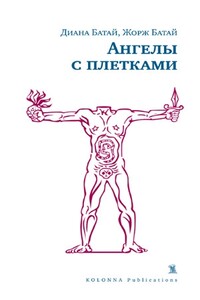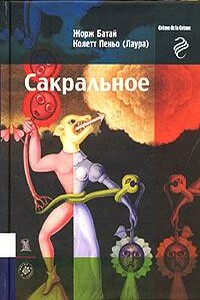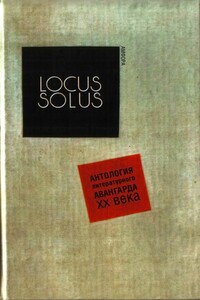Внутренний опыт | страница 62
После того, как набирающая силу тошнота передала совершенное “бытие” во власть небесной пустоты, оно, треща по швам, стало уже не бытием, а раной, даже агонией всего, что есть.
Август 1934
[Не могу, возвращаясь назад, проходя заново этот путь, который был проделан человеком, ищущим самого себя (свою славу), не поддаться стремительному и бьющему через край движению — себя воспевающему. Порой злюсь на себя за то, что внушаю окружающим чувство страдальческого существования. Разорванность — знак изобилия. Увядший, слабосильный человек не может жить в разорванности.
Пусть все замрет, станет невозможным, безжизненным. .. мне и горя мало! Но перехватит ли мне так дыхание?
Собрать воедино все устремления человека, все его возможности, добившись при этом предельной согласованности и крайней разношерстности, не забыть о смехе, от которого рвется ткань (материя), человека образующая, напротив, полностью увериться в своем ничтожестве, если мысль отказывается быть этой сокровенной разорванностью, а объект ее — само бытие — разорванной тканью (Ницше некогда говорил: “И пусть ложной назовется всякая истина, у которой не было смеха” — “Так говорил Заратустра”, “О старых и новых скрижалях”), — вот в чем усилия моей мысли продолжают и разрушают гегелевскую "Феноменологию духа". Построения Гегеля сводятся к философии труда, “проекта” Гегелевский человек — Бытие и Бог — совершает себя, завершает себя, соответствуя проекту. Должная стать всем самость не гибнет, не тонет в смехотворности или ничтожестве; напротив, единичное — вступивший на путь труда раб — благодаря несчетным ухищрениям достигает вершины всеобщего. Единственный камень преткновения для такого мировидения (несравненной, впрочем, глубины, в чем-то даже недоступной) составляет то, что в человеке к проекту не сводится: безрассудное существование, смех, экстаз, связывающие — в конечном итоге — человека с отрицанием проекта, коим, тем не менее, он является; в конечном итоге, человек человека полностью сводит на нет, всякая мысль об утверждении человека из человека изглаживается. Таков бы мог быть вольготный переход от философии труда — гегелевской, профанной философии — к философии священной, выражаемой “казнью” и предполагающей философию сообщения, куда как более доступную.
Никак не могу взять в толк, почему “мудрость” — наука — связывают с неподвижным существованием — это воспевающая себя суматоха, с хмелем которой сплетаются горячечность и разорванность. Гегелевская деловитость, законченный, профанный характер философии, в основу которой был положен принцип движения, соответствует в жизни Гегеля отказу от всего, что как-то напоминало собой священное опьянение. Не то чтобы Гегель был “не прав”, отказавшись от неких мягкотелых уступок, на которые пошли туманные умы его времени. Смешав существование и труд (рассуждающую мысль, проект), он замкнул мир в границах профанного: отринул священное (сообщение).