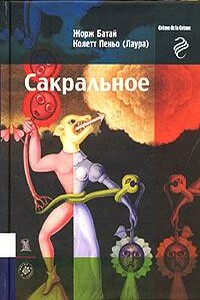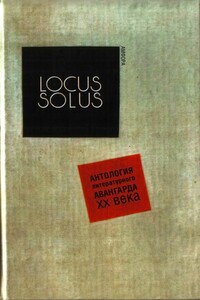Внутренний опыт | страница 40
Мое я ничего не значит. Для читателя это лишь некое бытие: имя, идентичность, историчность ничего не меняют. Он (читатель) — некое бытие, я (автор) —то же самое. Он и я, и тот, и другой— без имени, и тот, и другой вышли из... чего-то безымянного, для этого безымянного... и тот, и другой не что иное, как две песчинки в бескрайней пустыне или, скорее, две волны, что исчезают в море. Что-то безымянное... коему принадлежит “известная личность” мира-и-так-далее, которому она принадлежит столь всецело, что он остается для нее неведомым. Да будет бесконечно благословенна смерть, без которой “личность” принадлежала бы этому миру-и-так-далее. Нищета людей, что оспаривают у смерти возможности мира-и-так-далее. Радость умирающих, что уходят, как волна за волной. Непоколебимая радость умирающего, пустыни, падения в бездну невозможного, безответный вскрик, тишина смертельной случайности.
Христианину легко драматизировать жизнь: он живет перед ликом Христа, для него это нечто большее, чем он сам. Христос — всецелость бытия, однако он, совсем как “любовник”, имеет личность, совсем как “любовник”, желанен: и вдруг казнь, агония, смерть. Кто верует в Христа, идет на казнь. В Христа, которого самого ведут на казнь: не на какую-нибудь казнь, на смертную муку, на божественную агонию. Кто верует в Христа, не просто имеет возможность дойти до казни, но лишен возможности ее избежать: это казнь, в которой казнят что-то большее, чем он, в которой казнят самого Бога, который является человеком в не меньшей степени, чем сам человек, который не меньше, чем человек может казнить себя.
Недостаточно признать что-то, иначе это будет игра одного ума, нужно, чтобы признание нашло себе место в сердце (полуслепые внутренние движения...). Это уже не философия, это жертвоприношение (сообщение). Странное совпадение между наивной философией жертвоприношения (в древней Индии) и философией казнящегося незнания: жертвоприношение, движение души, перенесенное в познание (произошла перемена в направлении этого движения: прежде оно шло от сердца к разуму, теперь наоборот).
Самое странное — то, что незнание имеет свои предписания. Словно бы извне нам было сказано: “Ну вот, и ты здесь”. В пути незнания полным-полно бессмыслия. Я мог бы сказать: “Свершилось!” Но нет. Ибо, даже только предположив такое, я обнаруживаю перед собой те же границы горизонта, что исчезли мигом раньше. Чем больше я углубляюсь в знание — пусть даже по пути незнания, — тем тяжелее, тоскливее становится незнание конечное. В самом деле, я отдаю себя незнанию, это сообщение, и коль скоро сообщаюсь я с превращенным незнанием в бездну миром тьмы, то осмеливаюсь говорить “Бог”: так и возникает новое знание (мистическое), но я не могу уже остановиться (не могу — но надо же перевести дух): “Бог, если бы он только знал” И дальше, все время дальше. Бог вместо овна, подвернувшегося Аврааму. Это уже не жертвоприношение. Оно будет дальше — во всей наготе, без овна, без Исаака. Жертвоприношение — это безумие, отречение от всякого знания, падение в пустоту, и ничто не открывается ни в падении, ни в пустоте, ибо откровение пустоты есть не что иное, как средство пасть еще ниже, в бездну отсутствия.