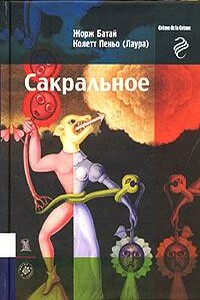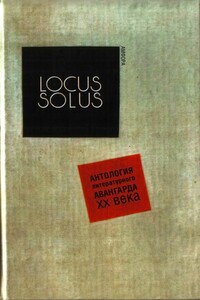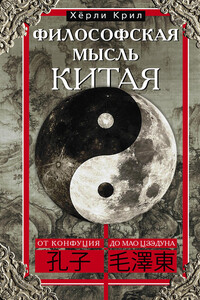Внутренний опыт | страница 26
Кажется, я остановился посреди улицы, скрывая свой бред под зонтиком. Вроде бы я подпрыгнул (несомненно, в мыслях) — меня сотрясали конвульсии света, и, воображаю себе, я смеялся на бегу.
Сомнение не отпускает меня, переполняя тоской. Что значит это озарение? Что это за свет, если даже сияние солнца ослепляло и воспламеняло меня изнутри? Чуть больше света, чуть меньше — это совершенно ничего не меняет; во всяком случае, человек, будь он солнечным или иным, остается человеком: быть всего лишь человеком, не иметь никакой иной возможности — вот что душит, вот что переполняет тяжким неведением, вот что нестерпимее всего.
“Я учусь искусству превращать тоску в отраду”, “восславить" — вот в чем смысл этой книги. Моя “суровость”, мои “невзгоды” — не что иное, как условие. Но тоска, которая выливается в отраду, все равно остается тоской: не отрадой, не надеждой, но тоской, причиняющей тебе боль и разрывающей на части. Кто не “умирает” от тоски быть лишь человеком, так всего лишь человеком и умрет.
Очевидно, тоске не научить. Что же, ее вызывают? Возможно, но я в это не верю. Разве что всколыхнешь ее осадок... Если кто-то признается, что его снедает тоска, следует обнажить ничтожность его доводов. Он воображает, что терзания могут окончиться: будь у него побольше денег, имей он жену, другую жизнь... Бесконечная нелепость тоски. Вместо того, чтобы испить до дна свою чашу, тоскующий что-то лепечет, позорит себя, ускользает. А ведь тоска была его удачей: он был избран в той мере, в какой предчувствовал. Но какая незадача, если он увиливает: он страдает и унижается, глупеет, лжет, притворяется. Увиливая от тоски, человек превращается в суетливого иезуита.
Содрогаясь. Твердо встать на ноги во мраке одиночества, ни единым жестом не выдать в себе страшной казни: казнение, но без жестов, а главное, без всякой надежды. Потерянный, казнящий себя, ослепший, полумертвый. Словно Иов на гноище, но без единой мысли в голове, обезоруженный наступлением ночи, знающий, что все потеряно.
Смысл казнения. — Я выражаю его так, в виде молитвы: “О, Бог-Отец, Ты, который как-то в ночь отчаяния распял Своего Сына, который в эту ночь, когда кровь текла, как на бойне, когда агония стала невозможной — когда невозможно было не закричать, — стал Невозможным в Тебе Самом, и прочувствовал невозможность до самого конца, до самого ужаса, Ты, Бог безнадежности, дай мне это сердце, Свое сердце, которое изменяет Тебе, превосходит и не терпит более того, что Ты есть!”