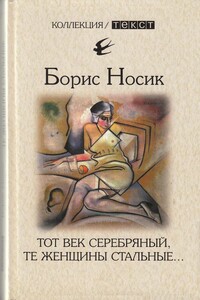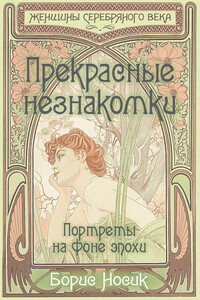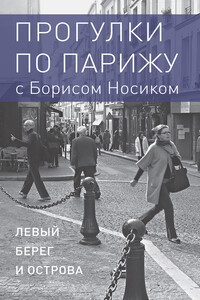Царский наставник. Роман о Жуковском в двух частях с двумя послесловиями | страница 32
Без сердечных обид и обычного самоедства вспоминает здесь наш певец, только что переживший любовное поражение, а потом и смертельный страх в кустах у Бородинского поля, — вспоминает милый ручей в Мишенском и холмы под Белёвом, где живут сестрички-племяшки…
Дальнейшая судьба этого стихотворения похожа на волшебную сказку о добром короле, принцессе, визире, падишахе и прочих персонажах романтических тоталитарных режимов прошлого. «Певец во стане…» не только разошелся по всей стране (был переписан от руки, был издан, переиздан), но и очень понравился вдовствующей императрице Марии Федоровне. «Царица-мать» (в полузабытом прошлом романтическая принцесса Доротея Вюртембергская из поэтического замка Монбельяр, что в горах Эльзаса, и большая поклонница сентиментальной французской и немецкой литературы) выразила пожелание получить от поэта автограф «Певца…» и звала автора в Петербург, в гости (несомненно, близкие ко двору друзья юности Жуковского похлопотали о своем чахнувшем в глуши друге).
Жуковский изготовил автограф и присовокупил к нему послание «Государыне Императрице Марии Федоровне», которое начиналось вполне элегантно:
Так без особых усилий со своей стороны Жуковский совершил то, на что у иных аристократов уходило полжизни, а именно снискал милость императорского дома: перед ним приоткрылась заветная для всякого смертного дворцовая дверь.
Хуже обстояли его дела в провинциальном (его же усилиями воздвигнутом) доме вдовицы уездного предводителя дворянства, беспутного мота и картежника Андрея Протасова. За этой дверью заперто было его сокровище Маша…
В конце 1813 года в гости к Жуковскому приехал его приятель по «Дружескому литературному обществу» Александр Воейков. Всего за несколько месяцев до этого визита Воейков напечатал в «Вестнике Европы» дружеское стихотворное послание к ставшему знаменитым Жуковскому. Теперь он прибыл в Муратово собственной персоной, и Жуковский многого ждал от этого визита для облегчения своей участи. Дело в том, что пока никакое самое высокое вмешательство (вплоть до положительного, в пользу Жуковского, суждения ректора Петербургской духовной академии и духовного писателя, архимандрита Филарета), никакое заступничество за влюбленного Жуковского и за нежную Машу, которая слегла от всех этих переживаний, не могло сломить упорство «тетеньки»-сестрицы Екатерины Афанасьевны. В феврале военного 1813 года Жуковский, еще не потерявший надежды, так писал Воейкову, приглашая его в гости: