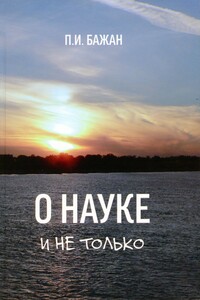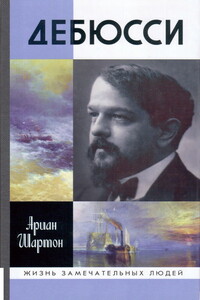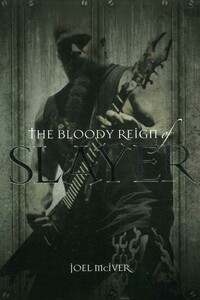Три любви Достоевского | страница 121
Выходя за него замуж, Анна Григорьевна вряд ли отдавала себе отчет в том, что ее ждало, и только после брака поняла трудность вставших перед ней вопросов. Тут были и его ревность и подозрительность, и его страсть к игре, и его болезни, и его особенности и странности. И прежде всего проблема физических отношений. Как и во всём остальном, их взаимное приспособление пришло не сразу, а в результате длительного, иногда мучительного процесса. Вначале у него не было страстного желания, и он обращался с нею с некоторой осторожностью и сдержанностью. Вероятно, по этой причине он не давал ей читать фривольных французских романов, не любил, чтоб она рассказывала нескромные анекдоты, и осуждал перед ней оперетку, как никому не нужный пустячок – и она из-за всего этого считала его целомудренным. В физическом отношении была она неопытна и наивна, и принимала его сексуальность целиком, ничему не удивляясь и даже ничего не пугаясь. Она патологическое готова была счесть за нормальное, по своей наивности верила, что так и надо, и естественно и спокойно отвечала на то, что другой женщине, более опытной или инстинктивно более понятливой, показалось бы странным или оскорбительным, а может быть даже и чудовищным. Много лет спустя, за год до смерти, когда ему было почти 60 лет, а ей едва 35, он писал ей из Эмса:
«Ты пишешь – «люби меня!», да я ль тебя не люблю? Мне только высказываться словами претит, а многое ты и сама могла бы видеть, да жаль, что не умеешь видеть. Уж один мой постоянный (мало того: всё более, с каждым годом возрастающий) супружеский мой восторг к тебе, мог тебе на многое указать, но ты или не хочешь понять этого, или, по неопытности своей, этого и совсем не понимаешь. Да укажи ты мне на другой какой хочешь брак, где бы это явление было в такой же силе, как и в нашем, двенадцатилетнем уже браке. А восторг и восхищение мои неиссякаемы. Ты скажешь, что это только одна сторона и самая грубая. Нет, не грубая, да от нее, в сущности, всё остальное зависит. Но вот этого-то ты и не хочешь понять. Чтоб окончить эту тираду, свидетельствую, что жажду расцеловать каждый пальчик на ножке вашей, и достигну цели, увидишь. Пишешь: ну, а если кто читает наши письма? Конечно, но ведь и пусть: пусть завидуют».
Стыдливость заставляла ее, к глубокому сожалению биографов, вычеркивать слишком вольные слова и фразы в его письмах, сохраненных ею для потомства, – но это оттого, что она считала неприличным других посвящать в тайны спальной: в самой же спальной всё было разрешено. Недаром Достоевский говорил о своем «возраставшем» супружеском восторге. Он с опаской вводил ее в мир сладострастья: он-то хорошо знал и свои садистские и мазохистские склонности, и свое неистовство, когда ему «позволяли» целовать ножки. Некоторые моменты физического соединения были для него, вероятно, так же ослепительны, полны такого же, почти невыносимого напряжения, как и моменты перед эпилептическим припадком – и чисто физическое наслаждение полового акта и его вершины давало ему ощущение прорыва в вечность: слияние с любимой женщиной в согласном ритме тайной плоти приближало его к Богу, рождало мистическое ощущение самоутверждения и самозабвения. Всё буйство тела и чувственности разрешалось в мгновенном прикосновении к последней правде: вселенная вливалась в него, он растворялся во вселенной, в соединении тел было воссоздание нарушенного единства. Из двух – один, едина плоть – в этом было преодоление разлада, предчувствие мировой гармонии.