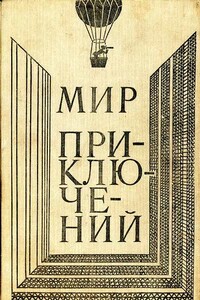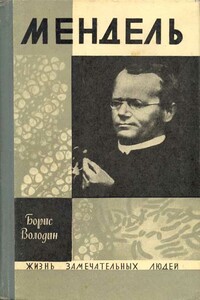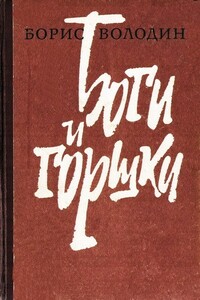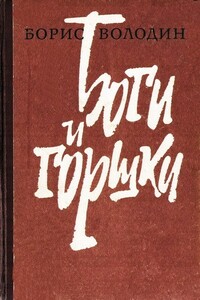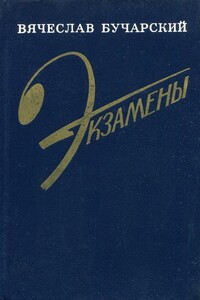Боги и горшки | страница 4
Почему вдруг студенту Павлову вздумалось тогда переводить именно с немецкого, объяснимо просто: как раз он собирался летом 1877 года поехать поработать в Бреславль к Рудольфу Гейденгайну, прозванному «физиолог с пеленок». Профессор этот среди прочего делил с Карлом Людвигом главнейший в Европе авторитет, в частности во всем, что касалось поджелудочной железы. А Ивану Петровичу надлежало наглядно доказать этой Европе, что ему вместе со своим однокашником по университету и академии Афанасьевым удалось выявить нервы, управляющие упомянутой железой. Он и совершенствовался всячески в языке, на котором предстояло доказывать. Но не в том дело, а в его настроении тех дней! Вот они, стихи:
Не знаю, как у читателя, а у меня сердце замерло, когда эти стихи увидел. Принялся было рассуждать про себя, что музыка стиха, пожалуй, все же уступает лермонтовской:
Но перевод-то, подписанный «Ив. П.», точнее! Ведь у Гейне на Севере диком тоскует и грезит по неведомой пальме, тоже печалящейся в недоступной дали от одиночества, ель — мужчина, «ein Fichtenbaum steht einsam!..». А в русском языке у «ели» — род только женский. Придать ему мужской род, как в немецком, где и die Fichte — ель, и der Fichtenbaum — тоже ель, нельзя, — вот переводчики и мучились. Лермонтов заменил «ель» «сосной» — простая поэтическая вольность. Создал шедевр, но важный оттенок упустил. А Фет, например, чтобы смысл стал точнее, заменил «ель» «дубом»: «На Севере дуб одинокий…», а там и дубы не растут, и звучит неудачно.
Иван Петрович подставил «кедр» не первым — у Тютчева и Полежаева тоже «кедр». Но его перевод лучше тютчевского — на удивление прекрасен. Я розыскатель, человек пристрастный, но вслушайтесь сами:
Чтобы такие стихи сложились, нужен душевный настрой, отчего дата «февраль 1877-го» и подсказывает предположение о времени, когда Ивану Петровичу пришлось в очередной раз испытать ощущение одиночества, а то ли Любови Александровне, то ли Фелицате Ивановне лить очень горькие слезы из-за того, что все расстроилось. И ведь он о них обеих худого слова не сказал! Напротив, ценил их достоинства: «Хотелось видеть их, стать ближе к ним». И хороши, вероятно, и добры, и с идеалами, да вот Ивану Петровичу привиделось и раз, и другой, что любовь к нему — пассивная и не сливается с работою его души. Вот и верь после этого молодым мужчинам, их нежным взглядам и жгучим словам!..