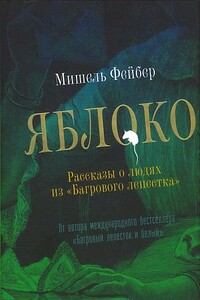Под кожей | страница 42
Иссерли потихоньку приблизилась к ней, опасливо балансируя на кончиках пальцев. Она едва дышала, боясь спугнуть свою компаньонку.
Трудно было поверить, что это существо не умеет говорить. Выглядело оно так, точно обладает этой способностью. Несмотря на причудливость ее черт, в них присутствовало нечто обманчиво человеческое, побудившее Иссерли, и уже не впервые, переступить межвидовую границу и попытаться установить с овцой связь.
— Здравствуй, — сказала она.
— Ал, — сказала она.
— Виин, — сказала она.
Три эти приветствия, исчерпавшие все известные Иссерли языки, никакого впечатления на животное не произвели — лишь заставили его отпрянуть.
Что же, следует признать: лингвист она никудышный.
Так ведь никакой лингвист и не взялся бы за ее работу, уж это можно сказать наверняка. Даже помышлять о ней могли только вконец отчаявшиеся люди без каких-либо видов на будущее, если не считать таковыми перспективу загнуться на Новых Плантациях.
Да и то еще им следовало сначала окончательно спятить.
Она, если оглянуться назад, была совершенно сумасшедшей. Восхитительно безумной. И это, как в конце концов выяснилось, принесло ей неизмеримую пользу. Иссерли приняла лучшее в ее жизни решение. Принеся очень малую, в сущности, личную жертву, она избавилась от жалкой жизни на Плантациях — и жизни до безобразия, по всему судя, короткой.
Всякий раз, ловя себя на горестных размышлениях о том, что сделали ради отправки сюда с ее прекрасным некогда телом, Иссерли напоминала себе, как выглядят те, кто прожил на Новых Плантациях достаточно долгое время, не важно какое. Уродство, гниение заживо — все это составляло для них, обитателей подземелья, порядок вещей. Возможно, причина была в их скученности, или в дурной пище, или в дурном воздухе, или в отсутствии медицинской помощи, возможно, то были неизбежные последствия подземной жизни. Но ведь и на людском отребьи Плантаций лежала печать несомненного уродства, почти недочеловеческой скверны.
Узнав, что Плантации ждут и ее, Иссерли поклялась, торжественно и исступленно: она сохранит здоровье и красоту, чего бы ей это ни стоило. Категорический отказ от телесных изменений стал бы ее местью властям предержащим, актом презрительного неповиновения. Но, честно говоря, оставалась ли у нее хоть какая-нибудь надежда? Разве не все и каждый клянутся поначалу, что уж они-то не позволят себе обратиться в животное со сгорбленной спиной, обезображенным телом, крошащимися зубами, поредевшими, коротко остриженными волосами? И как раз этим все они и кончают, не так ли? С чего бы стала она исключением, если б попала туда, а не сюда?