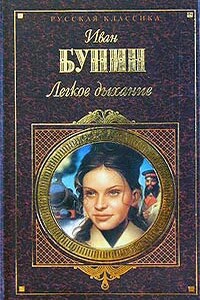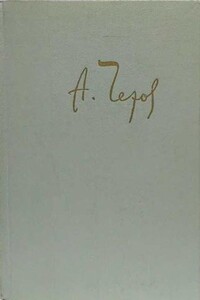Потревоженные тени | страница 19
Я помню рассказ об этих же мужиках, как какой-то Сидор Егоров предлагал дедушке выкуп за себя с семьей восемь тысяч, а Макар Семенов десять тысяч, и дедушка все-таки не взял, не согласился их отпустить на волю.
— Что ж тут такого, и не удивительно, — рассуждали все, соглашаясь, — при его состоянии можно все себе позволять. Другой, бедный человек на его месте, разумеется, взял бы десять тысяч за одну семью большие деньги, а ему что? Богачей он всех выпустит из деревни — она уж не та у него будет. Он из самолюбия этого не делает. Вот, дескать, какие у меня есть мужики.
— Это, то есть, как же выкуп? — спрашивал я при этом, слушая их рассказы-рассуждения.
— Очень просто, — отвечали мне, — мужик внесет деньги, а ему дадут вольную.
— И он уедет тогда?
— Куда угодно, сделай одолжение...
Помню я, когда мы гостили в Знаменском, поездки по праздникам в церковь к обедне и при этом мужиков Знаменских и баб, одетых по-праздничному. Мы подъезжаем, а большая каменная знаменская церковь уж полна народом; народ стоит на паперти, вокруг церкви, ограды, перед отворенными настежь церковными дверями. И вся эта масса, одетая по-праздничному, молящегося народа кланяется нам, а дедушка с бабушкой, мы и другие родственники и гости, приехавшие с нами, проходим в церковь, и нам все там тоже кланяются, дают дорогу, теснятся.
— Вот этот, — слышу я позади себя или возле кто-нибудь говорит, когда мы займем свои места и станем, чтобы помолиться, — вот этот вот, вон с седой бородой мужик, видите, это самый первый богач... Десять тысяч за себя это он Григорию Михайловичу выкупу давал, — он и двадцать может дать...
И действительно, они, знаменские мужики, поражали непривычный взгляд видом своего довольства. Едут — лошади у них так и блестят, шерсть лоснистая, медные бляхи у шлей горят на солнце, а сами жирные лошади едва бегут, да и то как-то лениво, сонно, точно они пообедали сейчас, хотят спать, а их запрягли.
Но я помню также, что эти все рассматриванья Знаменских мужиков со стороны их довольства и богатства, все рассуждения об этом их довольстве и богатстве на меня, ребенка еще, все-таки производили какое-то странное впечатление; мне невольно приходило в голову сравнение с таким же рассматриванием коров в стаде, когда их прогоняли мимо нас домой с поля и рассуждали об относительной сытости их, о количестве даваемого ими удоя... Было что-то странное, эгоистическое, материальное, безучастное в этих рассуждениях, и это детской, чуткой душой сейчас чувствовалось, слышалось. О людях не говорят так теперь. О них так можно было говорить только тогда — тогда, когда они были собственностью. Там, что бы мне ни говорили о том времени, но теперь так не говорят о людях, потому что теперь их так нельзя рассматривать...