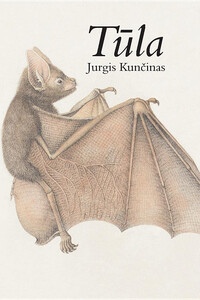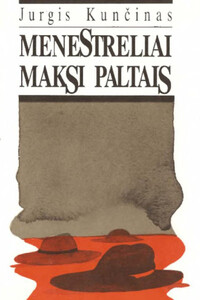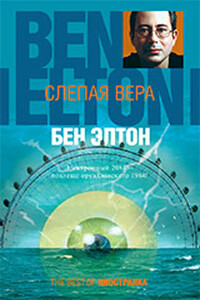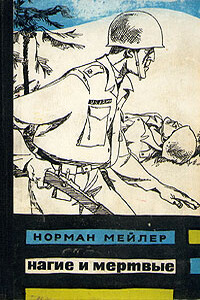Via Baltica | страница 45
4
За двенадцать лет мир изменился, а я ничего не заметил. Если в каком-нибудь 1958-м меня гоняли за плохие отметки и скверное поведение, бранили за быстрый износ штанов и ботинок, то в 1968-м уже совсем другие люди ругали меня за леность, безответственность (во имя чего ты родился?!), общественную пассивность, а чаще всего – за злостное игнорирование директив. Я был не один такой, окружающие меня терпели, но когда на борьбу со мной поднялась военная кафедра во главе с полковником Вольфом, я был безжалостно и профессионально растоптан. К военному делу меня не тянуло. Не привлекали ни тактика, ни огневая подготовка. Еще ужаснее выглядели военно-политические занятия. Они многим не нравились, это тоже правда, но мои коллеги эти занятия посещали, проявляли усердие, их даже хвалили. Военная кафедра покусилась на мою первую жиденькую бородку, а я, разобидевшись, на целый месяц пропал с горизонта. Объявлять себя пацифистом было не очень серьезно, даже опасно, и в глубине души не был я никаким пацифистом. По глупости мог бы завербоваться в Иностранный легион, но, увы, такового не наблюдалось. Была принудительная военная помощь – сначала венграм, а через двенадцать лет чехам. Но мир все-таки переменился: если венгры захлебнулись в слезах и крови, в Чехословакии крови, можно сказать, не было. И все равно! Чехи больше страдали от танковых гусениц, разворотивших улицы и автострады, и откровенно смеялись над русскими – своими славянскими братьями! Кто захотел и смог, легко перебежал на Запад, и хотя в том мире осудили вторжение, все они были как будто довольны, что все так счастливо закончилось. Выросли штаты на радиостанциях и в пропагандистском аппарате – кто туда попадал, получал материальную и моральную сатисфакцию.
Прошло лишь двенадцать лет, но я сам изменился неузнаваемо. Во время венгерских событий мне было девять, а тем летом, о котором я все так бестолково пытаюсь путано рассказать, двадцать один. Я не знал, куда мне девать энергию, спортом я занимался только в свое удовольствие, в шахматы не играл, рыбачить совсем не любил. Не было никакой охоты гонять голубей, которых далекий мой далекий друг Жека умудрился держать на чердаке общежития. В книгах, даже и в хороших тоже, царили тревога, ужас и безнадежность. Я старался выглядеть дерзким, даже циничным, а по сути был робким, нервным, без музыкального слуха, несобранным и ленивым: студию живописи, куда я пошел и где меня успели отметить, я бросил после нескольких посещений. Начал ходить в бассейн, но после него бывал зверски голоден и пускал слюну, если чуял, что где-то варят картошку, это было невыносимо, я плюнул и проч. Почти все формы человеческой деятельности вызывали во мне непоказное сопротивление, казались пустыми, монотонными и бессмысленными. Но молодость, молодость! Организм все регулирует сам, а когда об этом догадываешься, неважно – сутки или целую жизнь вобрал этот сад, в котором ты вдохновенно ковырялся до темноты, до заката. Поэтому все свои печальные откровения, мелкие жалобы и великие разочарования я стал поверять бумаге, и тут я был в этом не одинок – каждый третий филолог строчил поэмы и повести, жаждал внимания и признания. Так уж заведено: даже если потом потешаешься над своей наивностью, сочинительство все-таки помогает ориентироваться, образно говоря, позволяет убогому и примитивному твоему сознанию проникать в закоулки и на чердаки подсознания. Может, и прав этот Генри Миллер: путь к себе – каким бы ничтожным ты ни казался! – есть величайшее приключение. Только многие, если совсем откровенно, едва приоткрыв бронированную калитку внутрь самого себя, так поражаются и ужасаются, что мгновенно ее захлопывают и далее потом избегают к ней приближаться. А если и приближаются, тогда раньше срока седеют и умирают. Выбрасываются из окон, наука это красиво зовет –