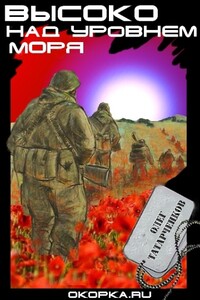Донник | страница 30
Как мы хохотали! Мы падали на дорогу от смеха, нас смех сотрясал, словно судороги, так нелепа была эта безмолвная сцена, так жестоко наказан был злой, недоверчивый человек! Обессилев от смеха, мы шли уже возле тутовников, все еще задыхаясь, вытирая глаза от непрошеных слез. Но, однако же, лунный свет почему-то померк, лунный диск стал почти жестяным, прозаичным. Все настойчивей и нахальней стало грызть комарье. Где-то в поле на наш разговор откликнулся перепел: «Спать пора!» И опять повторил яснее, спокойней: «Спать пора!»
Что ж, пора так пора.
Мы свернули левее и вышли на дамбу, к широкой реке, катившей в молчании свои мутные, торопливые волны, освещенные ясным, живым лунным светом. Серебристые ветлы дремали, роняя на землю узор, состоящий из света и теней. Где-то ровно постукивал, вероятно, за островами, мотор: шел катер из Ачуева. Где-то громко залаяла собачонка. За рекою спросонок пропел петушок, молодой еще, хриплоголосый. Но в душе что-то глухо застыло, как будто бы мы наткнулись на невидимую черту, на преграду, и как будто не люди, не человек — вот действительно царь природы! — а эта луна была виновата, что вокруг все померкло, стало плоским, обыденным, словно вырезанным из железа. И мне вдруг захотелось очертить вокруг нас двоих невидимый круг, хоть вот этим валяющимся на земле красноталовым прутиком, чтобы нас никогда не касалась жестокость слепых прозаизмов, ненавистных мне будней, чтобы лунные крылья, зеленея, лучились и реяли за спиной в лунном призрачном свете совсем как живые, реальные силы — в двести, в триста, в четыреста ангельских сил, уносящих тебя от угрюмости, недоверия, злобы в неизвестность, куда-то вперед, в желанное людям. Но разве такое возможно?!
Мы уходим домой, в ночь, в суровую темноту.
Отец кормит всю живность в округе. Поэтому ночью огромный приблудный пес громким лаем, размеренным, монотонным, отрабатывает весь съеденный за день хлеб. «Гав! Гав!» И сон обрывается, снова вяжется в узелок и вытягивается в тончайшую серую нитку только лишь для того, чтобы тут же, немедленно оборваться тем же самым басом, могучим, иерихонским: «Гав! Гав!»
Ах, будь ты неладен!
И всего-то давали похлебку и черные корки, а сколько усердия, чувства долга в собаке! Можно думать, что кто-то потребует от нее обстоятельнейший и подробнейший в письменном виде отчет о проделанной за ночь собачьей работе. «И хотел бы не лаять да не могу-с. Такова наша служба-с!»
Почему-то мне здесь, в этом тихом поселке, живется легко. Я хожу, к полнейшему неудовольствию мамы, в своем стареньком, «самшитовом» — сама шила — сарафанчике и — о ужас! — всегда босиком.