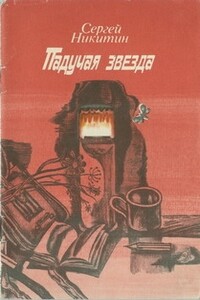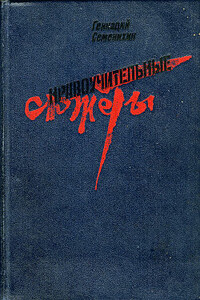Донник | страница 15
Между мной и отцом пролегли необъятные версты и тяжелые, долгие годы разлук, почти целые десятилетия: учение в школе, война и снова учение, но уже в институте, а после работа с разъездами в командировки. Разделяло нас с ним и мое непоколебимое убеждение, что ушедший из дома всегда виноват. Но на мир я гляжу почему-то глазами ушедшего, виноватого, и мир этот прекрасен, огромен. И так хочется иногда пробежать по дорожке след в след за отцом и спросить: «А что это такое? А это? А это?..» И услышать ответ, как когда-то, спокойный, исчерпывающий. Но отец где-то в знойной далекой стране, недоступной воображению, в низком мазаном доме с плоской крышей, за глиняным желтым дувалом. Как живет он там, что он делает, и что думает, и что чувствует, к сожалению, я не знаю.
Детство было полно необъяснимого и прекрасного.
Потом объяснимого стало больше, а прекрасного меньше. Исчезли из нашего старого дома старинные сказки с русалками, лешими и домовыми. Их вытеснили таблицы умножения, затем алгебра, геометрия; человек на картинках предстал в разрезе; все тайное стало явным; на смену поэзии пришла проза.
Осталось чудесной загадкой одно — само мое детство. Я нынче раздумываю: где оно затерялось, когда? Отчего я тогда не ценила его и слишком спешила стать взрослой? Мне оно почему-то рисуется очень милым, смешным существом, дорогим мне, родным, но, однако, не понятым мною. Словно я, оробев, постеснялась приблизиться, заглянуть ему прямо в глаза, не сумела сдружиться как следует.
Потом, спустя годы, точно так же я пожалею о себе, уже взрослой: почему не пыталась понять до конца, для чего мои силы, мое ликование, смех, веселье, здоровье? Лишь о старости не пожалею, но, наверно, и в старости мы так, в сущности, и не постигаем самих себя и не знаем, какие возможности в нас таились, на что мы способны.
Мне кажется, на войне человек иногда постигал эту тайну. Он вдруг видел, как в блеске слепящей, в полнеба, ветвящейся молнии, себя самого, свою душу — до дна. И себе удивлялся: вот я каков! Вот какие во мне гигантские силы! Как я рад, что я лучше, красивей, отважней, чем мне это когда-то казалось…
Да, поэтому мы и вспоминаем о тех горьких, тягчайших, мучительных днях с таким наслаждением, так любовно лелеем, храним в своей памяти то суровое время. Наше лучшее «я» не для будничных дел, оно как-то меркнет при свете обычных электрических ламп, оно проявляется лишь при свете коптилок и взблесках орудий.