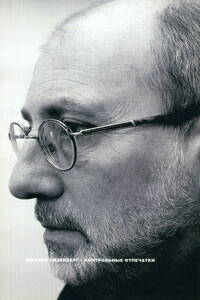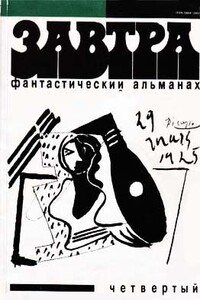Оправданное присутствие | страница 5
Теорию поэзии разрабатывали филологи, отчасти лингвисты. В свете их разработок поэт представляется таким сверхфилологом и суперлингвистом: разработчиком и испытателем языка, прогнозистом его состояния. Эти положения освящены авторитетнейшими подтверждениями. И все же мне кажется, что действительное положение вещей представлено здесь в таком редуцированном виде, что поневоле сводит разговор к частностям и признакам. А частности и признаки одни и те же у реальности и у ее имитации. По ним одно от другого не отличить, а ведь только это и важно.
Необходимо одно уточнение: что считать языком. «Не дано мне витийство: не мне Связных слов преднамеренный лепет!» (слова Фета, курсив мой). Под языком мы понимаем сейчас именно «связные слова» и «преднамеренный лепет», то есть устойчивую систему значений и т. д. То, к чему приложимо уточнение «русский», «английский» и пр. Не знаю, какое еще употребить «и т. п.», чтобы обозначить то, что все и так уже поняли.
Все наши утверждения не имеют никакого смысла, если не сводить язык к словарю и словесным коммуникациям. Язык и нельзя понимать так узко, и теория языка прекрасно это знает, но теория поэзии, как мне кажется, такое знание упускает из виду, что ли, или оставляет на «потом».
Я чувствую, что пересек сейчас границы «священных участков» и нахожусь на чужой земле. Мне тоже нужна авторитетная поддержка.
«Под жестом в стихотворении я подразумеваю такую расстановку слов, подбор гласных и согласных звуков, ускорений и замедлений ритма, что читающий стихотворение невольно становится в позу его героя, перенимает его мимику и телодвижения и, благодаря внушению своего тела, испытывает то же, что сам поэт, так что мысль изреченная становится уже не ложью, а правдой» (Н. Гумилев).
«Произнося это нараспев, ты вновь чувствовал в своих костях и суставах след того воздействия, которое стихотворение оказывало на тебя при первом прочтении» (Ш. Хини).
В каких-то случаях стоит прислушиваться к первому, неметафорическому значению слов. Определяя воздействие стихов словом «потрясение», мы с невольной точностью учитываем и какое-то их прямое физическое действие. Стихи скорее танец, чем рассказ. Язык могущественных ритмических колебаний и интонационных жестов. Какое-то сложное мимическое, миметическое действие, в котором участвует весь человеческий состав, все нервные окончания и тайные корни. В момент «художественного переживания» мы сами в какой-то степени становимся той вещью, которую переживаем, и словесная плоть вступает в отношения с нашей плотью – биением сердца, кровообращением, сокращением мускулов.