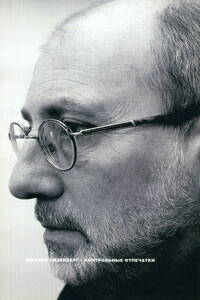Оправданное присутствие | страница 34
Подобные увещевания почему-то охотно толкуют как программный изоляционизм и создание лишних, неправомерных «степеней защиты». Но речь идет всего лишь о контексте, о цельном представлении. Поэт все же не изготовитель штучных красот, трудно даже сформулировать, что он реально «производит». Может быть, какой-то образ, знак, отчасти автопортрет, но составленный не из биографических подробностей (тем более не из рекламных «жестов»), а из тайного, внутреннего воздуха его речи.
Я надеюсь, что в таком понимании произведения нет никакой андеграундной специфики. Разве только теневая позиция подпольного автора придает этой теме остроту и некоторую воспаленность. Нужно сказать и об этой теневой позиции, о возможности и необходимости выбора, который иногда разводил в разные стороны одну литературную компанию. Даже первый по времени самиздатский журнал «Синтаксис» А. Гинзбурга (1959–1960) имел – на сегодняшний взгляд – неоднородный состав: кроме Бродского, Холина, Еремина, Некрасова, Сапгира и других, как нам представляется, заведомо подпольных авторов, там печатались Ахмадулина, Кушнер, Окуджава, Котляр. Такой состав соответствовал, видимо, неопределенности общей ситуации, и каждый определял свое положение – так или иначе. О причинах, заставлявших выбирать подполье, сказано уже немало, но общее правило не выводится. Мне кажется, что обобщения возможны только в границах небольшого исторического отрезка, условно десятилетия.
Время, которое я могу считать своим, – семидесятые годы – и само по себе было каким-то подпольем. Написал сначала «подпольем истории», потом «историю» зачеркнул. Время, которого как не было, не способно стать историей. Оно сделано из другого материала и остается не прошедшим: невполне-прошедшим. Оно не отделяется в сознании, не изживается. Точно как неопубликованная книга.
Шум истории не прослушивался; безвременье изъяснялось ультразвуками. И мы искали язык, понятный нашему времени.
Это была (и есть) эпоха подозрений. Под подозрением находилось и собственное существование. Но обретение письма было равнозначно обретению уверенности, доказательству от обратного: то, что порождает живое искусство, не может быть мертвым; люди, у которых что-то здесь получается, заведомо не мертвы.
А вообще все было довольно весело. Но и эту фразу надо зачеркнуть отрицающим уточнением: все могло бы быть весело, если бы не депрессивное, просто убийственное ощущение, что это – навсегда. Что так и подохнешь, как таракан в щели.