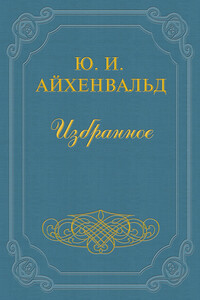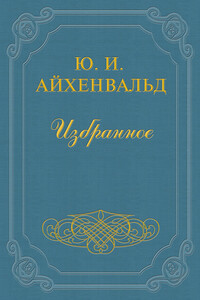Вступление к сборнику «Силуэты русских писателей» | страница 31
Но мы знаем, что одною зоологической, одною природной правдой Успенский все-таки не удовлетворился и возжаждал человеческого, Родионов-радетелей, тех, кто способен «объютить» страдающее сердце.
От власти земли к власти духа, стереть незаконные грани между природой и культурой, ввести в стихию начало совести – вот мечта Успенского. Какими бы дальними и кружными дорогами от природы ни уходить, все равно в нее вернешься. Какими бы смелыми порывами от культуры ни уклоняться, все равно ее не избудешь.
И это, в сущности, можно видеть и на художниках последнего времени.
Философское настроение не изгоняет из природы Бунина. Для неэлементарного духа своего находит он в ней утоление и достойное содержание; хотя и значительный, высокий, он ее не перерос, и не порвались те связи, которые тесно и проникновенно соединяют его с ее красотой и бесспорно чуемой мудростью.
Тонки ощущения Зайцева – но к этой тонкости природа оказалась приспособленной; она вовсе не груба и вовсе не идет вразрез с психологическими запросами развитой личности – это и служит новым подтверждением возможности синтеза между природой и культурой. Нельзя достаточно оценить то благое и знаменательное явление, что вместе с нами утончается и природа, она не отстает от нас, – другими словами, Для нас открыта возможность ее все больше и больше одухотворять, приобщать ее к лиризму хотя бы самых изысканных настроений наших – ко всей этой чистой нежности Зайцева, Блока, Анны Ахматовой. Сказать, что природа сама сделалась модернисткой, – на это мы имеем право. Ибо нет такой аристократичности и требовательности духа, которым из неистощимых и вечно обновляющихся родников своих не могла бы удовлетворить и угодить природа. Она теперь уже далеко не прежний, грубый Пан. Богатая оттенками, она вообще пластична, и потому, как это видно на примере многих новейших писателей, вовсе не должен во что бы то ни стало возникнуть конфликт между нею и утонченной личностью. Они столкуются.
Разве у Чехова природа не испытывает того же настроения, которое так свойственно ему самому? Разве он не видит, как даже «сонные тюльпаны и ирисы тянутся из темной травы, точно прося, чтобы и с ними объяснились в любви»?
И, значит, принципиально осуществима характерная мечта Брюсова о том, чтобы с «асфальта и гранита» вернуться к матери-природе, «в зеленых тайнах одичать», опять приобщиться к жизни первоосновной.
И, значит, нет роковой обязательности в том, чтобы, как говорит Сологуб, «огни сознания» непременно пробуждали «злую жажду», чтобы вино сознания, обостренной культурности хмелем своим вызывало весь тот оргийный, иррациональный бред и те больные желанья, которые отличают современную личность, с ее изощренностью и нервами. «Блаженно все, что в тьме природы, не зная жизни, мирно спит», – но и то, что из стихийной тьмы входит в сферу разумного огня, еще не обрекается этим самым вечному недугу и невзгоде. Разлад между природой и культурой – факт; но факты можно преодолеть, если они не запечатлены внутренней необходимостью.