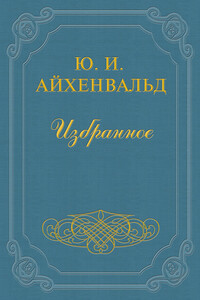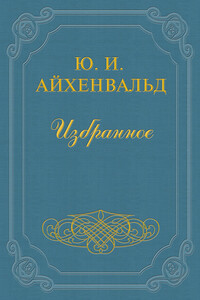Чехов | страница 34
Две из них, бледные, печальные, недавно потерявшие мать, сидят обе в одном кресле, „прижавшись друг к другу как зверьки, которым холодно, и прислушиваются к шуму на улице: не отец ли едет?“ По вечерам, в темноте и при свечах, они испытывают тоску. И непонятно им: как это можно говорить о чем-нибудь и смеяться, когда умерла мама? И можно ли внимательно относиться к урокам, когда умерла мама? „Итак, у Адама и Евы было два сына, – сказал Лаптев. – Прекрасно. Но как их звали? Припомни-ка!“ Лида, по-прежнему суровая, молчала, глядя на стол, и только шевелила губами, а старшая, Саша, смотрела ей в лицо и мучилась. „Ты прекрасно знаешь, не нужно только волноваться, – сказал Лаптев. – Ну, как же звать сыновей Адама?“ – „Авель и Кавель“, – прошептала Лида. „Каин и Авель“, – поправил Лаптев. По щеке у Лиды поползла крупная слеза и капнула на книжку. Саша тоже опустила глаза и покраснела, готовая заплакать». Плачут девочки. Их утешает чужая женщина: «Жаль мамы, и мне жаль, сердце разрывается, но что же делать? Ваш папа приедет сегодня». Папа действительно приехал, но какой папа! Дети целовали ему холодные руки, шапку, доху, а он не спеша приласкал девочек и объявил, что завтра едет в Петербург.
Дети становятся несчастными или пошлыми взрослыми людьми. Глаза у девочки Кати неизменно выражают одно и то же: «Все, что делается на этом свете, все прекрасно и умно». «Студенты дерутся в университете?» – спрашивает она у своего опекуна-профессора. «Дерутся, милая». – «А вы ставите их на колени?» – «Ставлю». И ей было смешно, что студенты дерутся и что я ставлю их на колени, и она смеялась. Это был кроткий, терпеливый и добрый ребенок. Потом жизнь смяла ее, и она уже больше не смеялась.
Когда-то приходила к отцу маленькая девочка, которая очень любила мороженое и мороженое считала мерилом всего прекрасного. «Один пальчик назывался у нее фисташковым, другой сливочным, третий малиновым и т. д. Обыкновенно, когда по утрам она приходила ко мне здороваться, я сажал ее к себе на колени и, целуя ее пальчики, приговаривал: сливочный… фисташковый… лимонный…» Но годы прошли, и эта девочка обратилась в нарядную барышню; она смеется отрывистым смехом, которому научилась в консерватории, и щурит глаза, когда в доме бывают мужчины. Теперь, когда она войдет к отцу, он по старой привычке целует ее пальцы и бормочет: «фисташковый… сливочный… лимонный…» – но остается «холоден, как мороженое». И думается ему: «Дочь моя часто видит, как я, старик, знаменитый человек, мучительно краснею оттого, что должен лакею; она видит, как часто забота о мелких долгах заставляет меня бросать работу и по целым часам ходить из угла в угол и думать; но отчего же она ни разу тайком от матери не пришла ко мне и не шепнула: „Отец, вот мои часы, браслеты, сережки, платья… заложи все это, тебе нужны деньги…“ Я бы не принял ни часов, ни браслетов, ни жертв, храни меня Бог, – мне не это нужно». Девушка, которая любила когда-то мороженое, теперь любит Гнеккера, молодого человека с выпуклыми глазами, молодого человека, олицетворяющего собою пошлость. Благодаря этой барышне в дом старого профессора внесено что-то мещанское и низменное. Узнать прежнюю Лизу можно разве только в одну из тех «воробьиных ночей», которыми богата жизнь. Тогда она мечется в тоске и стонет. К ней входит отец. «Увидав меня, она вскрикивает и бросается мне на шею. „Папа мой добрый… – рыдает она, – папа мой хороший… Крошечка мой, миленький…“ Она обнимает меня, целует и лепечет ласковые слова, какие я слышал от нее, когда она была еще ребенком… Я стараюсь укрыть ее, жена дает ей пить, и оба мы беспорядочно толчемся около постели; своим плечом я толкаю ее в плечо, и в это время мне вспоминается, как мы когда-то вместе купали наших детей».