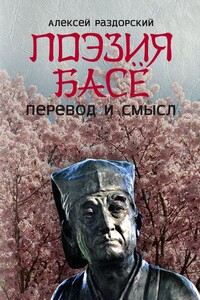Спор о Белинском. Ответ критикам | страница 29
Как мне доказать, что я читал вполне внимательно? Но и Н. Л. Бродский не докажет, что у Белинского нет тех резюмирующих слов о «Сцене», которые я привел в своем очерке: «(несмотря на то, пьеса эта) написана ловко и бойко и потому читается легко и с удовольствием». «Несмотря на то», т. е. несмотря на свои недостатки, сцена «написана ловко и бойко» и т. д.: значит, в последних словах, в заключении Белинского, содержится самое похвальное, самое смягчающее, что он может противопоставить изъянам произведения, – то предельно-снисходительное, что он может сказать о творении, которое, на мой скромный взгляд, глубокомысленно и веще, достойно Гёте и достойно Пушкина (Белинский же говорит еще, что хотя «Сцена» «написана удивительно легкими и бойкими стихами, но между ею и Гётевым „Фаустом“ нет ничего общего»). Если бы даже Белинский был прав, со свойственной ему излишней чуткостью к запросам «нашего времени» утверждая, что это «наше время», «знакомое с демоном другого поэта» (Лермонтова), «с улыбкой смотрит на пушкинского чертенка» и пушкинскому Мефистофелю предпочитает «демона движения, вечного обновления, вечного возрождения», того, «в сущности, преблагонамеренного демона», который, если и «губит иногда людей и делает несчастными целые эпохи, то не иначе, как желая добра человечеству и всегда выручая его», – если бы, говорю я, Белинский был и прав в этом наивном понимании демонизма, как доброты, благонамеренности и прогресса, то и в таком случае, вопреки Н. Л. Бродскому (который свое возражение мне обосновывает ссылкою на указанную концепцию демона у Белинского), это и не «сократило» бы, и не «уничтожило» бы моей мысли о том, что знаменитый комментатор Пушкина «Сцене из Фауста» никакого серьезного значения не придавал.
Н. Л. Бродский полагает, что если бы я «захотел быть беспристрастным» и не строил своего заключения о взгляде Белинского на Баратынского «по поводу отзыва Белинского только об одном стихотворении этого поэта», то я не сказал бы будто первый «ужасающе не понял мудрого Баратынского».
Во-первых, свое заключение об отношении критика к поэту я вывел не из одного отзыва Белинского об одном стихотворении Баратынского, а из всего, что первый писал о последнем (преимущественно же из статьи Белинского 1842 г.: «Стихотворения Евгения Баратынского»). Г. Бродский не заметил в моей фразе действительно маленького слова – и. Фраза эта читается так: «Он ужасающе не понял мудрого Баратынского и, если в 1838 г. называл его стихотворение „Сначала мысль воплощена в поэму сжатую поэта…“ – истинной творческой красотою, необыкновенной художественностью, то в 1842 г. про это же стихотворение отзывался»… (очень отрицательно). Союз и только исполнил здесь свою прямую обязанность – соединил одну мысль с другой. То, что следует у меня после и, говорит не о непонимании Белинским Баратынского, а – правда, в связи с этим – о присущей нашему критику изменчивости оценок; те же шесть слов, которые седьмому слову и у меня предшествуют («он ужасающе не понял мудрого Баратынского»), содержат в себе вывод, повторяю, как из всех рецензий Белинского на Баратынского, так и из той полемической литературы об этих рецензиях, с которой я познакомился у Андреевского, у Саводника, у Венгерова.