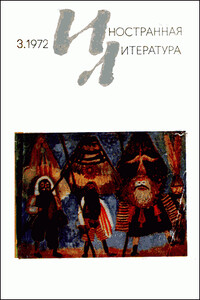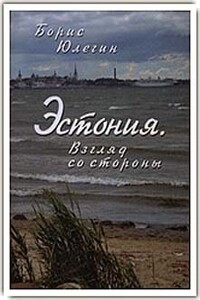Жизнь без Карло. Музыка для экзальтированных старцев | страница 8
Проснёмся мы от того, что вдруг разом захлопало очень много дверей: это означает, что поезд остановился, — отчего-то во время стоянок всегда непрерывно хлопают двери, будто бы все пассажиры немедленно вскочили со своих мест и побежали по поезду в разные стороны. Но нет — все спят: пронзительно-голубой станционный фонарь освещает через окошко неровный ряд свесившихся в проход мужских ног в носках (в точности на уровне лица — главный конструктор первого плацкартного вагона в загробной своей жизни наверняка вечно идёт по бесконечному вагонному проходу с этими самыми носками), а в соседнем купе страстно храпит пассажир, ещё вечером производивший впечатление вполне интеллигентного человека.
«Стоим?» — глупо спрашиваем мы непрокашлявшимся голосом у старушки (она сидит на нижней полке, не спит). «Стоим!» — приветливо отзывается старушка, надеясь, видимо, продолжить свою историю про сына и невестку, каковая история закончится, впрочем, только вместе с чьей-нибудь смертью.
Что за станция? Но старушка, увы, не знает. Да и многие ли из вас, смеявшихся в детстве над человеком рассеянным, знают, на какой железнодорожной ветке расположена станция Дибуны?
Шаркая незашнурованными кроссовками, мы идём в засыпанный уже пеплом тамбур, закуриваем невкусную сигарету и смотрим в окно: там невидимая женщина кричит в громкоговоритель на неизвестного мужчину. От того, что ответов мужчины не слышно, кажется, что женщина эта страшная дура и сука, и непонятно, как её тут терпят, если она так орёт каждую ночь. «Осаживай состав на десятом! — кричит она с ненавистью. — Подавай маневровый на седьмой!» «А нахуй не пошла?» — мысленно отвечаем мы за невидимого мужчину, но он и без нас знает, что ему нужно делать и поэтому ровно ничего не происходит — никто никуда не осаживает и ничего никому не подаёт. Лишь хлопают по-прежнему двери и бегают туда и обратно одни и те же проводники, будто бы только от них и зависит — поедем мы дальше или же останемся на этой станции навсегда.
Вот так однажды проснулся я среди ночи, освещённый синим фонарём, но уже не как простой безответный пассажир, которому каждое проходящее мимо лицо в фуражке вольно отдавать строгие распоряжения, а в статусе именно такого на всё уполномоченного лица, то есть проводника.
Двери, как это ни удивительно, нигде не хлопали либо же были не слышны из-за того, что весь наш вагон содрогался от страшных ударов снаружи. Я с большим трудом поднялся с полки и кое-как отомкнул дверь тамбура. Внизу стоял чрезвычайно злобный человек в железнодорожной форме, украшенной множеством разнообразных нашивок, что, по-видимому, свидетельствовало о высоком его чине (хотя нашивкам не всегда следует доверять: у иного демобилизованного узбекского рядового нашивок и аксельбантов может быть гораздо больше, чем у самого заслуженного генералиссимуса или даже инопланетного космонавта, но это к слову). Куда более убедительно выглядел портфель — среди сельского казахского населения он в те времена почитался как символ принадлежности к высшим слоям общества, то есть к Начальникам.