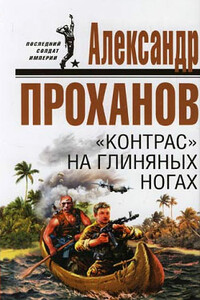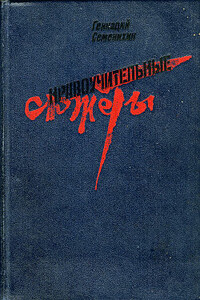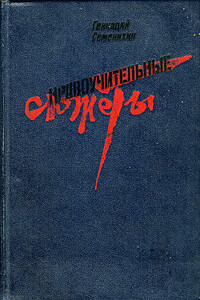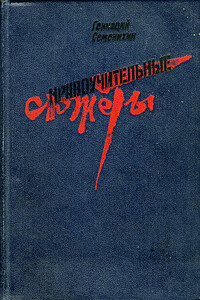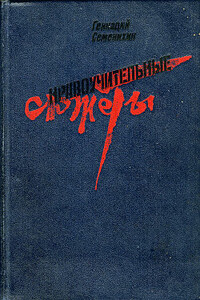Стеклодув | страница 9
С тех пор время его потянулось, как тревожное ожидание и непрестанная печаль. Он вглядывался в себя, надеясь, что в душе вот-вот раскроется глаз, неподвижный и ясный, заключенный в треугольник, рассылающий вокруг лучи ясновидения, каким изображают в храмах «Божье око». Но внутренне зрение оставалось все тем же, внешним, было наполнено видениями, среди которых прошла его жизнь. Песчаная насыпь с железнодорожной колеей, ведущей к тайландской границе. Сахарно-белый Бейрут с дымом одинокого взрыва. Синее шоссе под Лубанго с исковерканной сожженной «Тойотой».
Теперь он много лежал с раскрытыми глазами, которые были будто запечатаны сургучом, как депеша, предназначенная для могущественного получателя. Он больше не мог читать, и вспоминал стихи, которые, словно предчувствуя слепоту, выучил наизусть и теперь декламировал вслух, изумляясь их новому звучанию. Это были стихи Гумилева. Суздальцев находил в них множество созвучий, отыскивал странное тождество, с которым жизнь умершего поэта воспроизводилась его жизнью.
«Туркестанские генералы» были стихами о нем, молчаливом и одиноком, безмолвно пережившим исчезновение великого времени, уход России с Востока, куда некогда, через Устюрт и Мангышлак, двигались русские полки, покоряя Хиву и Бухару.
Это четверостишье вызывало в памяти белесые, опудренные солью степи Шинданта, караван верблюдов, медленно перебредавший шоссе, тусклый звяк колокольчика, который ночью сменялся звуком одинокого выстрела.
Африканские воспоминания были также созвучны.
Тут же воскресал глянцевитый цветущий куст на берегу океана, мерцающие проблески бабочек, взмах сачка, и он целует трепещущую марлю, благоухающую цветочной пыльцой, глядя в безбрежную синеву океана.
И, конечно же, стих о ночном бдении.
Это было напрямую о нем, о его тьме, о потребности остаться в этой тьме одному, чтобы пережить преображение в смерти.
Расстрелянный белогвардейский поэт, проигравший свою «белую империю», через сто лет, словно духовный брат, обращался к нему, «красному» генералу, потерявшему свою «красную Родину». И это было загадочно и сладко, он плакал слепыми глазами, и это были их общие слезы.