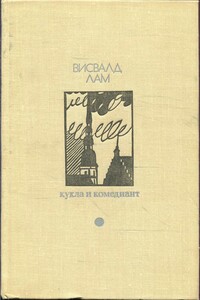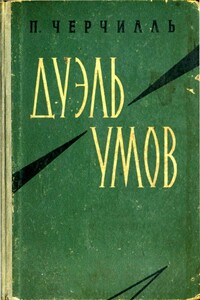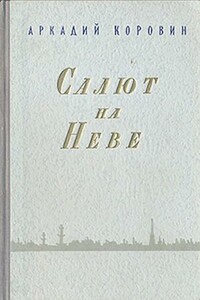…И все равно - вперед… | страница 19
Ледяные пальцы Цабулиса прикоснулись к его руке:
— У меня руки дрожат, тяжело бриться. Не поможешь?
Такая мольба в глазах, что и не откажешь. Гринис кивнул:
— Выскоблю получше, чем в любой цирюльне.
Первым делом он разделил хлеб. Умяли его, запивая брусничным наваром, и пошли дымить, так что туча повисла. После выпитого кипятку, побритый Гринисом, Цабулис уже не выглядел таким изможденным. Начал заговаривать и вскоре согласился с требованием Клуциса — через два-три часа пойти дальше.
— На опушке присмотрим какую-нибудь усадьбу, и будь там даже немцы, я один в темноте слазаю и все обделаю, — похвалился Клуцис. — А с полным брюхом мы до рассвета уже далеко уйдем, туда, где понадежнее.
Гринис согласился, что примерно в этом роде что-то надо сделать, только на Клуцисову храбрость он полагался меньше всего. Язык-то у него долгий, да дела короткие. В стычке в Польше не бог весть какое геройство было двинуть по голове того, кто руки поднял. И сокровенные свои мысли Клуцис выразил уже в следующей фразе:
— Как только точно узнаем, что уже в Латвии, тут же все эти самопалы в пруд или в речку.
— Гм… ангелы нас, что ли, хранить будут? — осведомился Гринис.
— Харч у любого мужика раздобудем, а с ружьишком этим все одно мировую войну не выиграем. Только лишний груз. И если фрицы нас с оружием схватят, то уж точно к стенке.
— А без оружия? По плечу похлопают и коньяком угостят?
— Скажем, что мы дезертиры, заблудились.
— И дезертиров стреляют.
— Да уж не так они и стреляют, как про них сказывают, — и Клуцис принялся рассказывать историю, которая, по его мнению, доказывала, что с немцами можно ужиться.
Не желая и слушать его, Гринис повернулся к Цабулису:
— Ну, смотри, как я тебя обработал — вон какой благообразный, С таким портретом не страшно и жену целовать.
На лице Цабулиса появилась улыбка — грустная и тусклая, как этот осенний день. Но все же опять может улыбаться. Даже разговаривать. И тут же обратился к семье, там, в видземской усадьбе, которая, в окружении яблонь, лежит у подножия пологого холма. Неподалеку вьется столь характерная для латвийского пейзажа белая песчаная дорога с бело-черными стволами берез в придорожных рощицах. Вдали простираются поля, которые многие годы знали Цабулева Яниса, ходившего по ним с плугом, хотя они и не принадлежали ему, так же как не его была крыша, прикрывавшая арендаторов угол с кухней и комнатой. Зато у него была хорошая жена, шустрая дочка, парнишка, уже научился ходить, и третий ребенок, только что появился на свет, а тут его, Цабулиса, и угнали в Германию. Об этих маленьких человечках, занимавших большую часть Цабулисовых мыслей, Гринис слышал уже не раз, но впервые слушал с таким вниманием, точно уловив новые звучания в старой песне.