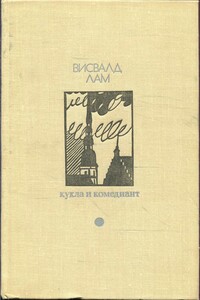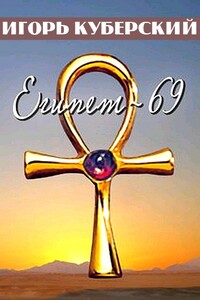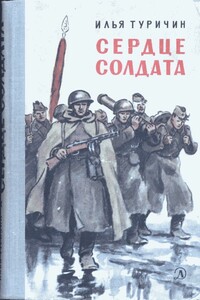, я же это читал только в переводе Аспазии (и к тому же кощунственно счел тоскливым занудством), она верила в любовь, которая возносит до небес. А явился всего лишь лесник, потому что для настоящих господ ее красота была простым полевым цветком, а образованность — всего лишь умением читать по-немецки. У лесника были пылающее от любви сердце, недавно поставленный дом, обработанные поля. Он привез яркий полевой цветок в эту чащобу, но уже не против ее воли; привез в рессорной бричке, которая год за годом поддерживала престиж графского лесника и вот, сломанная, покоится в углу завозни, привез через залитую солнцем молодую поросль, через вековой ельник, где даже полдень теряется в полумраке, через бело-алый цвет брусничника и через дурманящий запах багульника по извилистой дороге, которую подвенечной фатой покрывала белая пыль; а может быть, это было в зимнюю пору, когда от мороза трещит весь мир и играющие на солнце сугробы сверкают, как зубы веселого парня. Она вылезла во дворе Клигисовой усадьбы, скинула шаль с пышной «фризуры»; я видел ее лицо, оно цвело, как брусничник, алело, как брусничник… Вот это морщинистое старушечье лицо, древнее, как мир. Цвела эта вечная любовь, древняя, цветущая, рассыпающаяся прахом, возрождающаяся из праха. Твоя молодость и моя старость, ты же не знаешь, что жизнь — это сплошной закат. Эти ветры с воем вращаются вокруг меня по спирали вечности, я простираю руки поверх них, и приходит время, когда опаляет зноем лето, обжигают поцелуи и небо дарует вишневому саду багрово-черную ягодную благодать. А кто одарит ею древо моего познания и его ольховой горечи сок? Всевышний комедиант, сотвори чудо: даруй старости легкость детской души и юношескую веру неверующему. Быстрым шагом сновала она в те минуты, когда сын запрягал лошадь, чтобы отвезти ее в гости в Валле к племяннику и племянницам, — молодая девушка возвращалась в свои родные места. А я не вернусь, мне некуда возвращаться. Утерянный и возвращенный рай. Я родился за воротами Эдема, в пустыне, — обретая, я могу только терять.
С утра мы собирались варить сироп из сахарной свеклы. Хозяйка растапливала плиту, хозяин ловко орудовал ножом и рассказывал о третьем графском леснике, Приедкалне.
— Приедкалн был ух какой колдун! У него дом никогда не запирался и клеть стояла полная, все равно никто оттуда ничего не мог взять. Войдешь, крадучись, в клеть и что-нибудь своруешь — так и останешься на месте, будто гвоздями приколотили. Такие, брат, дела! — На лице Клигиса священный ужас. — Это он от отца перенял заговорные слова. Вся эта колдовская сила у него прямо на лице была написана. Глаза черные-черные, так и горят, поглядит в упор, у тебя мурашки по коже. Кто того Приедкална даже в первый раз встречал, сразу делал, что он велит. Когда казна стала передавать усадьбы во владение, он браковщиком леса работал у одного еврея. На черном жеребце по округе скакал, только огонь из-под копыт. Сказывали, что он этого жеребца телячьей кровью поил. Сколько раз, бывало, подъедет к кому-нибудь, кто в лесу работает, крикнет: «Подержи-ка моего коня!» — а сам меряет. Не шутка была того черного коня удержать. Потом вытащит из кармана десять латов и даст за то, что хорошо держал. У него денег пропасть была, ему змей по ночам таскал сколько надо.